- Преподавателю
- ИЗО, МХК
- Рождественские рассказы и сказки
Рождественские рассказы и сказки
| Раздел | Изобразительное искусство и Мировая художественная культура (ИЗО и МХК) |
| Класс | 5 класс |
| Тип | Тесты |
| Автор | Козак Д.С. |
| Дата | 25.11.2015 |
| Формат | doc |
| Изображения | Есть |
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ РАССКАЗЫ И СКАЗКИ
Инна Сапега. Звезда Мельхиора (рождественская сказка)
Давным-давно в далекой восточной стране жил звездочёт. Волосы и борода у него были седы как Млечный путь, а глаза светились, словно две ясные звездочки. Никто точно не знал возраста звездочёта, но люди полагали, что он живет на этой земле уже не одну сотню лет.
него были седы как Млечный путь, а глаза светились, словно две ясные звездочки. Никто точно не знал возраста звездочёта, но люди полагали, что он живет на этой земле уже не одну сотню лет.
Звездочет был старым и мудрым: на любой вопрос он быстро находил ответ. По карте небесных светил и созвездий, а также по движению планет звездочет мог точно определить, когда у лошади родится жеребенок, и отчего у царя болит голова. За этот дар многие люди считали звездочёта волшебником или - волхвом. Звали звездочёта Мельхиор.
Одной ночью, когда звездочёт наблюдал за созвездиями, на востоке показалась новая звезда. «Такой звезды здесь раньше не было!» - подумал Мельхиор. Необычная звезда ярко светила и словно звала звездочёта за собой. Он открыл все свои астрономические книги, но ни одна из них ничего не говорила о той звезде. Тогда Мельхиор достал самую дорогую книгу: книгу Мудрости. Пергамент её страниц был тонок и ароматен, а слова - приятны для сердца и души. «Воссияет звезда от Иакова и восстанет человек от Израиля...» прочитал он в этой книге.
- Значит, родился Царь иудейский! - воскликнул звездочёт. - Царь и Господь всей вселенной.
Наутро звездочёт взял самое лучшее, что у него было, чтобы подарить Царю, запряг свою верную лошадь и отправился в путь.
- Ты куда, звездочёт? - спрашивали его на пути люди.
- Родился Царь вселенной, и я иду за звездой поклониться ему.
- За какой звездой? - недоумевали они. - Ты видно сошел с ума от старости, день на дворе, и мы не видим в небе никакой звезды. Да, её и быть не может!
А иные вздыхали:
- Ты идешь к Царю? Я бы тоже пошел с тобой, но у меня столько дел и забот.
День и ночь звезда светила Мельхиору и указывала ему путь. Когда он уставал и останавливался передохнуть - звезда также замирала на месте и ждала путника. Но стоило звездочёту встать на ноги для дальнейшего путешествия, как звезда вновь летела перед ним.
Долго шел звездочёт или нет - неизвестно. Но только оказался он на перепутье четырех дорог. Смотрит - по разным дорогам едут еще два странника и оба указывают на его звезду.
Сошлись они вместе, поклонились друг другу.
- Я - Мельхиор! - представился звездочёт первым, как старший из путников. - Я иду с востока поклониться новому Царю.
- А я Вальтасар. - промолвил второй путник, смуглый, с длинной бородой. - Звезда указывает мне, где родился настоящий Человек. Я иду встретить его.
- Гаспар! - назвал себя молодой и румяный странник. - Я направляюсь за этой звездой славить истинного Бога.
- Думается - мы идем в одну сторону, друзья! - воскликнул Мельхиор.
Весьма обрадовались путники встрече. И решили дальше продолжить путь вместе.
На следующий день они подошли к большому городу, и звезда исчезла. Опечалились странники. Они стали испрашивать у горожан, не знают ли они о звезде и не родился ли у них новый царь.
- Не было никакой звезды.... Мы ничего не видели- разводили руками люди. - А если вы ищите царя - вон видна его башня.
Когда странники предстали перед царем той страны, они спросили у него:
- Родился ли у тебя великий наследник, царь? Звезда с востока привела нас сюда, и мы пришли поклониться новому Царю.
- Я - царь и другого царя здесь нет и не будет. - закричал царь, и лицо его исказилось от злости и страха потерять свой трон.
Звездочеты ничего больше не сказали. Они поняли, что не этого царя они искали, и покинули город.
- Смотрите - наша звезда! - воскликнул Вальтасар.
И правда звезда снова светила на горизонте и звала их в дорогу.
Уже ночью путники пришли к горам. Звезда остановилась около маленькой пещеры, но не погасла. Она стала еще ярче и радостнее. Друзья спрыгнули со своих лошадей и вошли внутрь пещеры. В уголке в яслях лежал маленький Младенец. Рядом сидела Его Мать.
Мальчик посмотрел на вошедших. И столько было света и любви в его взоре, что странники тут же упали на колени. Каждый нашел того, кого искал: перед ними был и Человек, и Царь, и Бог.
Друзья раскрыли свои дары и положили перед Младенцем. Мельхиор преподнес золото Царю. Вальтасар - смирну Человеку. Гаспар - ливан Богу.
Затем, немного погостив, странники сели на лошадей и возвратились каждый в свою страну.
И Звездочет вернулся. Он очень изменился во время путешествия. Он уединился у себя в доме и больше не следил за созвездиями и планетами. Он сказал:
- Взгляд Одного Мальчика научил меня больше, чем поведали звезды за всю мою жизнь. Возможно, и вы однажды встретите Его, и ваша жизнь изменится.
Люди же решили, что дорога была слишком тяжела для старого звездочёта, и мало кто поверил его словам.
Но мы с тобой знаем, что звездочёт говорил истинную правду. И потому на Рождество Христово мы поём в храме: Рождество Твое, Христе Боже наш,
возсия мирови свет разума, в нем бо звездам служащии
звездою учахуся Тебе кланятися, Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты востока. Господи, слава Тебе!
Инна Сапега. Ослик и Вол.
Жили два друга: Ослик и Вол. Они были очень разные.
Серый Ослик был низенький, с длинными ушами и вытянутой мордой. Рыжий Вол, напротив, был огромный, с круглыми боками, и рогами полумесяцем. Веселый Ослик любил путешествовать и посещать новые места. А задумчивый Вол мог часами просто стоять и жевать траву, размышляя о жизни.
Ослик и Вол дружили по-настоящему, и потому отличия одного не огорчали, а радовали другого. Так, Вол с удовольствием расспрашивал у непоседы Ослика о его приключениях, а Ослик за советом шел к рассудительному Волу. Возможно, именно благодаря их доброй дружбе с ними и произошла эта чудесная история.
+++
Однажды Ослик прибежал к Волу с радостной новостью:
- Скоро я отправлюсь в дальний путь! - воскликнул он. - Сегодня Хозяин подтянул моё седло и проверил у меня копыта!
- Правда? - удивился Вол. - И ко мне приходил Хозяин. Он пощупал мои бока и заглянул мне в рот.
-Значит, мы пойдем вместе! - развеселился Ослик.
Но тут он заметил, что его друг грустно опустил голову.
- Что случилось, Вол?
- Я подумал, - тихо ответил Вол. - что Хозяин хочет идти со мной на базар. И продать меня...
- Нет, что ты! - стал утешать друга Ослик. - Он тебя не продаст, он же добрый.
На следующее утро Ослик и Вол встретились во дворе. На Ослике было надето мягкое седло, а на шее у Вола завязана толстая веревка с серебряным колокольчиком. Дзынь-Дзынь - позвякивал колокольчик, когда Вол шагал.
Друзья молча кивнули друг другу. Разговаривать они не решились, ведь рядом стояли Хозяин и Хозяйка. А животные скрывают от людей, что тоже умеют говорить.
Хозяин посадил Хозяйку на спину Ослика, взял Вола за веревку и все вместе они пошли в путь. Ослик весело напевал дорожную песенку, а Вол звенел своим серебряным колокольчиком. Дзынь-Дзынь.
+++
- Мы идем в город! - объявил Ослик.
Они с Волом стояли около ручья и пили прохладную воду. А Хозяин с Хозяйкой отдыхали под большим деревом.
- Муу! - промычал Вол. - Последний раз я был в городе еще телёнком!
- Конечно, - улыбнулся Ослик. - ты же всегда сидишь дома. И наверное, сейчас ты удивишься, увидев каким огромным стал город.
Город оказался даже больше, чем помнил Ослик. А он приходил сюда с Хозяином каждый год на Большой Праздник. В городе было много людей, много домов и совсем мало животных.
- Я не хотел бы здесь жить. - поделился Вол с другом, когда Хозяин с Хозяйкой сели кушать на ступенях одного дома. У Вола было прекрасное настроение, потому что Хозяин не отвел его на базар.- В городе совсем нет травы и не видно неба.
Ослик же мотнул головой:
- Зато здесь есть дорога под ногами, и всегда происходит что-то новое.
Друзья не стали спорить. Они просто замолчали, и каждый подумал о своём.
- А знаешь, - сказал Ослик. - У Хозяйки скоро будет Малыш.
- Как хорошо! - обрадовался Вол. Он очень любил детей.
- Да, это хорошо! - согласился ослик.
И они снова улыбнулись друг другу.
+++
Наступал вечер. Солнце покраснело от усталости и скрылось за горами. На небе появились первые звездочки. Дзынь-дзынь - в ночной тишине раздавался колокольчик Вола. Путники давно покинули город и шли по узкой тропинке, которая вилась между горами. Холодало.
- Мне кажется, мы не успеем вернуться домой. потому что уже вечер, а идти нам очень долго. - прошептал Вол.
Ослик кивнул другу. Он смотрел на Хозяина и видел, что тот тоже тревожился о ночлеге для своей семьи.
- Надо что-то придумать... - решил Ослик. - Вол! Ты же выше меня, скажи там никакого домика вдали не видно?
- Нет. Домика нет. - ответил Вол. - Только в горах возле пещеры, играют две овечки.
- Значит, надо туда и идти!
Ослик оставил тропинку и направился к горам.
Вол остановился в нерешительности, глядя то на Ослика, то на Хозяина. Дзынь! Дзынь!- брянчал его колокольчик. Что же делать Волу, идти за другом?
Хозяин тоже с удивлением наблюдал, как Ослик удалялся со спящей Хозяйкой на спине…
- Что же... - вздохнул Хозяин. - Может, и правда, нам лучше заночевать в пещере...
Пещера, в которую пришли утомленные путники, оказалась маленькой, но очень теплой и уютной. Недавно там останавливались пастухи, внутри стояли ясли и пахло свежем сеном.
Животные и люди расположились на ночлег. Но никому не спалось: в эту ночь у Хозяйки родился Малыш. Хозяйка запеленала Сына и положила его на мягкое сено в ясли. И только тогда сама заснула.
- Какой Он красивый! - воскликнул Ослик.
- Да, Он прекрасен! - подхватил Вол. - Этот Малыш особенный.
Друзья стояли над яслями и разглядывали новорожденного.
- А Ему здесь не холодно? - заволновался Вол.
- Давай останемся и будем охранять Его сон. - предложил Ослик.
Вол и Ослик склонили свои головы над спящим Младенцем и так и стояли всю ночь, согревая своим дыханием Маленького Бога.
На любой иконе Рождества Христова можно увидеть этих двух друзей: серого веселого Ослика и рыжего задумчивого Вола.
С. Лагерлёф. Рождественская ночь.
Это было в Рождественский сочельник. Все уехали в церковь, кроме бабушки и меня. Я думаю, что мы вдвоем были одни во всем доме; только мы с бабушкой не смогли поехать со всеми, потому что она, была слишком стара, а я слишком мала. Обе мы были огорчены, что не услышим Рождественских песнопений и не увидим священных огней.
Когда уселись мы, одинокие, на бабушкином диване, бабушка начала рассказывать:
«Однажды глубокой ночью человек пошел искать огня. Он ходил от одного дома к другому и стучался:
- Добрые люди, помогите мне! - говорил он. - Дайте мне горячих углей, чтобы развести огонь: мне нужно согреть только что родившегося Младенца и Его Мать.
Ночь была глубокая, все люди спали, и никто ему не отвечал.
Человек шел все дальше и дальше. Наконец увидел он вдали огонек. Он направился к нему и увидел, что это костер. Множество белых овец лежало вокруг костра, овцы спали, их сторожил старый пастух.
Человек, искавший огня, подошел к стаду; три огромные собаки, лежавшие у ног пастуха, вскочили, заслыша чужие шаги; они раскрыли свои широкие пасти, как будто хотели лаять, но звук лая не нарушил ночной тишины. Человек увидел, как шерсть поднялась на спинах собак, как засверкали в темноте острые зубы ослепительной белизны, и собаки бросились на него. Одна из них схватила его за ногу, другая - за руку, третья - вцепилась ему в горло; но зубы и челюсти не слушались собак, они не смогли укусить незнакомца и не причинили ему ни малейшего вреда.
Человек хотел подойти к костру, чтобы взять огня. Но овцы лежали так близко одна к другой, что спины их соприкасались, и он не мог дальше идти вперед. Тогда человек взобрался на спины животных и пошел по ним к огню. И ни одна овца не проснулась и не пошевелилась».
До сих пор я, не перебивая, слушала рассказ бабушки, но тут я не могла удержаться, чтобы не спросить:
- Почему не пошевелились овцы? - спросила я бабушку.
- Это ты узнаешь, немного погодя, - ответила бабушка и продолжала рассказ:
«Когда человек подошел к огню, заметил его пастух. Это был старый, угрюмый человек, который был жесток и суров ко всем людям. Завидя чужого человека, он схватил длинную, остроконечную палку, которой гонял свое стадо, и с силой бросил ее в незнакомца. Палка полетела прямо на человека, но, не коснувшись его, повернула в сторону и упала где-то далеко в поле».
В этом месте я снова перебила бабушку:
- Бабушка, почему палка не ударила человека? - спросила я; но бабушка мне ничего не ответила и продолжала свой рассказ.
«Человек подошел к пастуху и сказал ему:
- Добрый друг! Помоги мне, дай мне немного огня.
Только что родился Младенец; мне надо развести огонь, чтобы согреть Малютку и Его Мать.
Пастух охотнее всего отказал бы незнакомцу. Но когда он вспомнил, что собаки не смогли укусить этого человека, и палка не попала в него, как-будто не захотела ему повредить, пастуху стало жутко и он не осмелился отказать незнакомцу в его просьбе.
- Возьми сколько тебе надо, сказал он человеку.
Но огонь уже почти потух. Сучья и ветки давно сгорели, оставались лишь кроваво-красные уголья, и человек с заботой и недоумением думал о том, в чем донести ему горячие угли.
Заметя затруднение незнакомца, пастух еще раз повторил ему:
- Возьми, сколько тебе надо!
Он со злорадством думал, что человек не сможет взять огня. Но незнакомец нагнулся, голыми руками достал из пепла горячих углей и положил их в край своего плаща. И угли не только не обожгли ему руки, когда он их доставал, но не прожгли и плаща, и незнакомец пошел спокойно назад, как будто нес в плаще не горячие угли, а орехи или яблоки».
Тут снова не могла я удержаться, чтобы не спросить:
- Бабушка! Почему не обожгли угли человека и не прожгли ему плащ?
- Ты скоро это узнаешь, - ответила бабушка и стала рассказывать дальше.
«Старый, угрюмый, злой пастух был поражен всем, что пришлось ему увидеть.
- Что это за ночь, спрашивал он сам себя, - в которую собаки не кусаются, овцы не пугаются, палка не ударяется и огонь не жжет?
Он окликнул незнакомца и спросил его:
- Что сегодня за чудесная ночь? И почему животные и предметы оказывают тебе милосердие?
- Я не могу тебе этого сказать, если ты сам не увидишь, - ответил незнакомец и пошел своей дорогой, торопясь развести огонь, чтобы согреть Мать и Младенца.
Но пастух не хотел терять его из вида, пока не узнает, что все это значит. Он встал и пошел за незнакомцем, и дошел до его жилища.
Тут увидел пастух, что человек этот жил не в доме и даже не в хижине, а в пещере под скалой; стены пещеры были голы, из камня, и от них шел сильный холод. Тут лежали Мать и Дитя.
Хотя пастух был черствым, суровым человеком, но ему стало жаль невинного Младенца, который мог замерзнуть в каменистой пещере, и старик решил помочь Ему. Он снял с плеч мешок, развязал его, вынул мягкую, теплую пушистую овечью шкуру, и передал ее незнакомцу, чтобы завернуть в нее Младенца.
Но в тот же миг, когда показал пастух, что и он может быть милосердным, открылись у него глаза и уши, и он увидел то, чего раньше не мог видеть, и услышал то, чего раньше не мог слышать.
Он увидел, что пещеру окружают множество ангелов с серебряными крыльями и в белоснежных одеждах. Все они Держат в руках арфы и громко поют, славословят родившегося в эту ночь Спасителя мира, Который освободит людей от греха и смерти.
Тогда понял пастух, почему все животные и предметы в эту ночь были так добры и милосердны, что не хотели никому причинить вреда.
Ангелы были всюду; они окружали Младенца, сидели на горе, парили под небесами. Всюду было ликование и веселье, пение и музыка; темная ночь сверкала теперь множеством небесных огней, светилась ярким светом, исходившим от ослепительных одежд ангелов. И все это увидел и услышал пастух в ту чудесную ночь, и так был рад, что открылись глаза и уши его, что упал на колени и благодарил Бога».
Тут бабушка вздохнула и сказала:
- То, что увидел пастух, могли бы и мы увидеть, потому что ангелы каждую Рождественскую ночь летают над землею и славословят Спасителя, но если бы мы были достойны этого.
И бабушка положила свою руку мне на голову и сказала:
- Заметь, себе, что все это такая же правда, как то, что я тебя вижу, а ты меня. Ни свечи, ни лампады, ни солнце, ни луна не помогут человеку: только чистое сердце открывает очи, которыми может человек наслаждаться лицезрением красоты небесной.
С. Лагерлеф. Видение императора.
Это случилось в то время, когда Август был императором в Риме, а Ирод - царем в Иудее.
И вот однажды на землю спустилась великая и святая ночь. Такой темной ночи никто еще никогда не видел. Невозможно было отличить воду от суши; и даже на самой знакомой дороге нельзя было не заблудиться. Да иначе и быть не могло, ведь с неба не падало ни одного лучика. Все звезды оставались дома, в своих жилищах, и ласковая луна не показывала своего лика.
И столь же глубокими, как мрак, были безмолвие и тишина этой ночи. Реки остановились в своем течении, не ощущалось ни малейшего дуновения ветерка, листья осины перестали дрожать. Морские волны не бились больше о берег, а песок пустыни не хрустел под ногами у путника. Все окаменело, все стало недвижимо, чтобы не нарушать тишины святой ночи. Трава приостановила свой рост, роса не пала, цветы не источали свой аромат.
В эту ночь хищные звери не вышли на охоту, змеи затаились в своих гнездах, собаки не лаяли. Но самое чудесное заключалось в том, что и неодушевленные предметы хранили святость этой ночи, не желая содействовать злу: отмычки не отпирали замков, нож не мог пролить чью-то кровь.
В эту самую ночь несколько людей вышли из императорского дворца на Палатинском холме в Риме и направились через Форум к Капитолию. Незадолго перед тем, на закате дня, сенаторы спросили императора, не возражает ли он против их намерения воздвигнуть ему храм на священной горе Рима. Но Август не сразу дал свое согласие. Он не знал, будет ли угодно богам, если рядом с их храмом будет выситься храм, сооруженный в его честь, и потому решил принести жертву своему духу-покровителю, чтобы узнать волю богов. Теперь в сопровождении нескольких приближенных он и отправился совершить это жертвоприношение.
Августа несли на носилках, потому что он был стар и подняться по высоким лестницам Капитолия уже не смог бы. В руках он держал клетку с голубями, которых намеревался принести в жертву. С ним не было ни жрецов, ни солдат, ни сенаторов; его окружали только самые близкие друзья. Факельщики шли впереди, как бы прокладывая путь среди ночного мрака, а сзади следовали рабы, несшие алтарь-треножник, ножи, священный огонь и все, что требовалось для жертвоприношения. Император весело беседовал дорогой со своими приближенными, и потому никто из них не заметил беспредельного безмолвия и тишины ночи. Только когда они поднялись к Капитолию и достигли места, предназначенного для сооружения храма, им стало ясно, что происходит нечто необычайное.
Эта ночь, несомненно, была не похожа на все другие ночи еще и потому, что на краю скалы император и его свита увидели какое-то странное существо. Сначала они приняли его за старый, искривленный ствол оливкового дерева, затем им показалось, что на скалу вышло древнее каменное изваяние из храма Юпитера. Наконец они поняли, что это была старая Сибилла.
Никогда еще им не приходилось видеть такого старого, побуревшего от непогоды и времени, гигантского существа. Эта старуха наводила ужас. Не будь здесь императора, все бы разбежались по домам и попрятались в свои постели.
- Это та, - шептали они друг другу, - которой столько же лет, сколько песчинок на берегу ее отчизны. Зачем вышла она именно в эту ночь из своей пещеры? Что предвещает императору и империи эта женщина, выводящая свои пророчества на листьях деревьев, чтобы ветер затем отнес их по назначению?
Страх перед Сибиллой был так велик, что, сделай она хоть малейшее движение, люди тотчас же пали бы ниц и приникли челом к земле. Но она сидела неподвижно, как изваяние. Согнувшись на самом краю скалы и полуприкрыв глаза руками, всматривалась она в ночную тьму. Казалось, она взобралась на холм, чтобы лучше рассмотреть нечто, происходящее бесконечно далеко. Значит, она могла что-то видеть даже в такую темную ночь!
Только теперь император и вся его свита заметили, как густ был ночной мрак. Ничего не было видно даже на расстоянии вытянутой руки. И какая тишина, какое безмолвие! Даже глухой рокот Тибра не долетал до их слуха. Они задыхались от неподвижного воздуха, холодный пот выступил у них на лбу, руки оцепенели и висели бессильно. Они чувствовали, что должно совершиться нечто ужасное. Однако никто из свиты не хотел обнаружить своего страха, все говорили императору, что это счастливое знамение: вся вселенная затаила дыхание, чтобы поклониться новому богу.
Они убеждали Августа поспешить с жертвоприношением.
- Возможно, что древняя Сибилла, - говорили они, - для того и покинула свою пещеру, чтобы приветствовать императора.
В действительности же внимание Сибиллы было поглощено совсем другим. Не замечая ни Августа, ни его свиты, она мысленно перенеслась в далекую страну. И чудилось ей, будто бредет она по обширной равнине. В темноте натыкается она на какие-то кочки. Но нет, это не кочки, а овцы. Она блуждает среди огромного стада спящих овец. Вот она заметила костер. Он горит среди поля, и она пробирается к нему. Возле костра спят пастухи, а подле них лежат длинные, заостренные посохи, которыми они обычно защищают стадо от хищных зверей. Но что это? Сибилла видит, как стайка шакалов тихонько подкрадывается к огню. А между тем пастухи не защищают свое стадо, собаки продолжают мирно спать, овцы не разбегаются, и шакалы спокойно ложатся рядом с людьми.
Вот какую странную картину наблюдала сейчас Сибилла, но ничего не знала она о том, что происходит позади нее, на вершине горы. Она не знала, что там воздвигли жертвенник, развели огонь, насыпали курения и император вынул из клетки одного голубя, чтобы принести его в жертву. Но руки его вдруг так ослабели, что не могли удержать птицу. Одним легким взмахом крыльев голубь вырвался на свободу и, высоко взлетев, исчез в ночной тьме.
Когда это случилось, царедворцы подозрительно взглянули на древнюю Сибиллу. Они подумали, что это она все подстроила.
Могли ли они знать, что Сибилле по-прежнему чудилось, будто она стоит у костра пастухов и прислушивается к нежной музыке, тихо звучащей среди безмолвной ночи? Сибилла услышала ее задолго до того, когда наконец поняла, что музыка доносится не с земли, а с неба. Она подняла голову и увидела, как по небу скользят светлые, лучезарные создания. Это были небольшие хоры ангелов. Казалось, они что-то ищут, тихонько напевая свои сладкозвучные гимны.
Пока Сибилла внимала ангельским песням, император снова готовился принести жертву. Он омыл руки, вычистил жертвенник и велел подать другого голубя. Но хотя на этот раз он изо всех сил старался удержать птицу, гладкое тельце выскользнуло из его руки, и голубь взвился к небу и скрылся в непроглядном мраке.
Императора охватил ужас. Он пал на колени перед пустым жертвенником и стал молиться своему духу-покровителю. Он просил его отвратить бедствия, которые, видимо, предвещала эта ночь.
Но и это прошло для Сибиллы незамеченным. Она вся была поглощена пением ангелов, которое становилось все сильней и сильней. Наконец оно стало таким громким, что разбудило пастухов. Приподнявшись, глядели они, как светозарные сонмы серебристых ангелов длинными, трепетными вереницами, подобно перелетным птицам, прорезали ночную тьму. У одних в руках были лютни и гусли, у других цитры и арфы, и пение их звенело так же радостно, как детский смех, и так же беспечно, как щебетание жаворонков. Услышав это, пастухи встали и поспешили в город, где они жили, чтобы рассказать там об этом чуде.
Пастухи взбирались по тесной, извилистой тропинке, и древняя Сибилла следила за ними. Внезапно гора озарилась светом. Как раз над нею зажглась большая, яркая звезда, и, как серебро, заблистал в ее сиянии городок на вершине горы. Все сонмы носившихся в воздухе ангелов устремились туда с ликующими кликами, и пастухи ускорили шаги, так что уже почти бежали. Достигнув города, они увидели, что ангелы собрались над низкими яслями близ городских ворот. Это было жалкое строение с соломенной крышей, прилепившееся к скале. Над ним-то и сияла звезда, и сюда стекалось все больше и больше ангелов. Одни садились на соломенную кровлю или опускались на отвесную скалу за ним; другие, раскинув крылья, реяли в воздухе. И от их лучезарных крыльев весь воздух светился ярким светом.
В тот самый миг, как над городком зажглась звезда, вся природа пробудилась, и люди, стоявшие на высотах Капитолия, не могли не заметить этого. Они почувствовали, как свежий, ласкающий ветерок пронесся в воздухе, как потоки благоуханий разлились вокруг них. Деревья зашелестели, Тибр зарокотал, засияли звезды, и луна поднялась внезапно на небе и осветила мир. А с облаков вспорхнули два голубя и сели на плечи императору.
Когда произошло это чудо, Август поднялся в горделивой радости, друзья же его и рабы бросились на колени.
- Ave Caesar! - воскликнули они. - Твой дух ответил тебе. Ты тот бог, которому будут поклоняться на высотах Капитолия.
И восторженные крики, которыми свита славила императора, были такими громкими, что дошли наконец до слуха старой Сибиллы и отвлекли ее от видений. Она поднялась со своего места на краю скалы и направилась к людям. Казалось, темная туча поднялась из бездны и понеслась на горную вершину. Сибилла была ужасна в своей старости: спутанные волосы висели вокруг ее головы жидкими космами, суставы рук и ног были вздуты, потемневшая кожа, покрывавшая тело неисчислимыми морщинами, напоминала древесную кору.
Могучая и грозная, подошла она к императору. Одной рукой она коснулась его плеча, другой указала ему на далекий восток.
- Взгляни! - повелела она, и император последовал ее приказу.
Пространство открылось перед его взором, и они проникли в дальнюю восточную страну. И он увидел убогий хлев под крутым утесом и в открытых дверях несколько коленопреклоненных пастухов. В пещере же увидел он юную мать, стоявшую на коленях перед новорожденным младенцем, который лежал на связке соломы на полу.
И своими большими, узловатыми пальцами Сибилла указала на этого бедного младенца.
- Ave Caesar! - воскликнула она с язвительным смехом. - Вот тот Бог, которому будут поклоняться на высотах Капитолия!
Тогда Август отшатнулся от нее, как от безумной. Но мощный дух предвидения снизошел на Сибиллу. Ее тусклые глаза загорелись, руки простерлись к небу, голос изменился, точно он принадлежал не ей; в нем появилась такая звучность и сила, что его можно было бы слышать по всей вселенной. И она произнесла слова, которые, казалось, прочитала в небесах:
- На Капитолии будут поклоняться обновителю мира, будь он Христом или Антихристом, но не рожденным из праха.
Сказав это, она прошла мимо пораженных ужасом людей, медленно спустилась с вершины горы и исчезла.
На следующий день Август строго запретил сооружать ему памятник на Капитолии. Взамен его он воздвиг там святилище в честь новорожденного Бога-младенца и назвал его Алтарь Неба - Ara coelli.
С. Лагерлеф. Колодец Мудрецов.
Стояло лето. По Древней Иудее, по завядшим кустам терновника и по желтой от зноя траве ходила Засуха, угрюмая, с ввалившимися глазами.
Солнце обжигало горы, лишенные тени; малейший ветерок поднимал с земли густые облака известковой пыли; стада толпились в долинах у иссякших ручьев.
Засуха ходила и осматривала запасы воды. Она направилась к прудам Соломона и с досадой увидела, что еще много воды заключают они в своих скалистых берегах. Затем она спустилась к знаменитому колодцу Давида, близ Вифлеема, и там тоже нашла еще воду. Оттуда она медленно поплелась по большой проезжей дороге, ведущей из Вифлеема в Иерусалим.
Пройдя около половины пути, она увидела Колодец Мудрецов, вырытый у самого края дороги, и тотчас же заметила, что он вот-вот иссякнет. Засуха присела на сруб колодца, состоящий из одного цельного, большого, выдолбленного камня, и заглянула в его глубину. Светлое водное зеркало, обыкновенно видневшееся близ самого отверстия, опустилось глубоко вниз, и тина и ил со дна загрязнили и замутили его.
Когда колодец увидел в своем тусклом зеркале загорелое лицо Засухи, на дне его послышался жалобный всплеск.
- Желала бы я знать, когда же тебе придет конец! - сказала Засуха. - Ведь под землей не осталось ни одного ручейка, который мог бы просочиться и дать тебе новую жизнь. А дождя, слава Богу, жди не раньше чем через два-три месяца.
- Можешь быть спокойна, - тяжело вздохнул колодец. - Мне уже никто не поможет. Разве что райский ключ забьет вдруг со дна моего.
- Ну, так я не оставлю тебя, пока все не будет кончено, - сказала Засуха.
Она видела, что старому колодцу осталось недолго жить, и хотела насладиться тем, как жизнь будет покидать его капля за каплей.
Она уселась поудобней на сруб и с радостью стала прислушиваться к горестным вздохам колодца в глубине. Большое удовольствие испытывала она, видя, как жаждущие странники подходят к колодцу, опускают в него свои ведра и вытаскивают со дна лишь несколько капель смешанной с тиной воды.
Так прошел весь день, и, когда стало смеркаться, Засуха снова заглянула в колодец. Внизу еще блестело немножко воды.
- Я здесь останусь на всю ночь! - крикнула она. - Можешь не торопиться! Когда совсем рассветет и я смогу снова заглянуть в тебя, на дне уже не будет ни капли.
Засуха прикорнула на крыше колодца.
А на Иудею тем временем сошла душная ночь, еще более жестокая и мучительная, чем знойный день. Собаки и шакалы выли, не переставая, им вторили томимые жаждой ослы и коровы. Редкие порывы ветра не приносили прохлады, сам ветер был горяч и удушлив, как жаркое дыхание огромного спящего чудовища.
Но звезды сверкали волшебно, как никогда, и маленький, блестящий серп молодого месяца заливал серые холмы чудным, зеленовато-голубым светом. И в этом сиянии Засуха увидела длинный караван, приближавшийся к холму, где находился Колодец Мудрецов.
Засуха смотрела на караван и с наслаждением представляла, сколько томимых жаждой людей приближается к колодцу. И не найдут они здесь ни одной капли воды, чтобы напиться. Караван был столь велик, что вполне мог бы вычерпать все содержимое колодца, если б даже он был доверху полон воды. Но вдруг Засухе показалось, что в этом караване, путешествующем в ночи, есть что-то необычное, таинственное. Все верблюды появились перед ней на вершине холма, отвесно вздымавшегося над горизонтом, как-то внезапно, точно спустились с неба. Они казались крупней обыкновенных верблюдов и слишком уж легко несли свой большой груз.
В то же время не было сомнения в том, что и верблюды, и люди были настоящие, живые: ведь она видела их совершенно ясно. Засуха могла даже разглядеть, что трое передних верблюдов были дромадеры с серой, лоснящейся шерстью. На них была богатая упряжь, они были покрыты дорогими коврами, и всадниками их были красивые и знатные вельможи.
Весь караван остановился у колодца; дромадеры с резкими криками опустились на землю, и всадники сошли с них. Вьючные верблюды остались стоять, к ним подходили остальные, и скоро они образовали бесконечную вереницу высоких шей и горбов и причудливо нагроможденных вьюков.
Три всадника, ехавшие на дромадерах, подошли к Засухе и приветствовали ее, приложив руку ко лбу и к сердцу. Она увидела, что на них были ослепительно белые одеяния, а их огромные белоснежные чалмы венчали звезды, сиявшие таким ярким блеском, точно их сняли прямо с неба.
- Мы прибыли из дальней страны, - сказал один из чужеземцев, - и хотим спросить у тебя, действительно ли это Колодец Мудрецов?
- Так он назывался еще сегодня, - ответила Засуха, - но завтра здесь больше не будет колодца. Он должен умереть в эту ночь.
- Об этом можно догадаться, увидев тебя здесь, - сказал чужеземец. - Но разве это не один из тех священных колодцев, которые никогда не могут иссякнуть? Иначе зачем бы ему носить это имя?
- Я знаю, он священен, - сказала Засуха, - но что из того? Ведь все три мудреца, давшие ему это название, давно в раю.
Путешественники переглянулись.
- Ты действительно знаешь историю этого древнего колодца? - спросили они.
- Я знаю историю всех колодцев и источников, всех ручьев и родников на свете, - гордо ответила Засуха.
- Так окажи нам милость, расскажи нам о священном Колодце Мудрецов! - попросили чужеземцы.
И они уселись кружком возле Засухи, стародавнего врага всего живущего на земле, и стали слушать.
Засуха откашлялась, поудобнее устроилась на своем высоком сиденье и приступила к повествованию.
- В Габесе, мидийском городе, лежащем у самой пустыни и поэтому часто служившем мне желанным приютом, жили много-много лет тому назад три человека, славившиеся своей мудростью. В то же время они были очень бедны - странное, казалось бы, обстоятельство, ибо в Габесе знание было в большом почете и щедро оплачивалось. Но эти люди и не могли ожидать ничего иного, ибо один из них был очень стар, другой поражен проказой, третий же был черный толстогубый негр. Первого люди считали выжившим из ума стариком, второго избегали из боязни заразиться; речам же третьего они не хотели внимать, потому что были уверены, что никогда еще мудрость не являлась к ним из Эфиопии.
Между тем общее несчастье объединило трех мудрецов. Днем они просили милостыню у одних и тех же ворот храма, ночью спали на одной и той же кровле. Таким образом они и коротали время, рассказывая друг другу обо всем чудесном, что им приходилось видеть в своей жизни.
Однажды ночью, когда они спали рядышком на крыше, густо заросшей красным, душистым маком, самый старый из них проснулся и, едва открыв глаза, принялся будить своих товарищей. «Хвала нашей бедности, принуждающей нас спать на открытом воздухе! - сказал он им. - Проснитесь и поднимите взоры к небу!» Что и говорить, - продолжала Засуха, смягчив немного голос. - Это была такая ночь, что забыть ее никому не возможно. Было так светло, что небо, похожее обычно на твердый свод, казалось глубоким и прозрачным, как море. Свет вздымался в нем приливами и отливами, а звезды, казалось, плавали на различной глубине, одни в самых волнах света, другие на их поверхности.
Но вдруг из самой глубины неба показалось какое-то темное пятно. И это пятно стало стремительно приближаться. Приближаясь, оно светлело, но светлело так, как светлеют розы - да повелит им всем Господь Бог увянуть! - когда они распускаются. Пятно делалось все крупнее, темная оболочка его постепенно расходилась, и ярко засветились ее первые четыре лепестка.
Наконец, поравнявшись с самой близкой из звезд, это пятно, светящееся изнутри, остановилось. Краешки темной оболочки совсем отогнулись в стороны, и из середины стали развертываться один за другим лепестки дивно-лучезарного, розоватого светила, перед которым побледнели все звезды небосклона.
Когда бедняки увидели это, их мудрость подсказала им, что в этот час родился на земле царь, который превзойдет своим могуществом и славой царя Кира и Александра Македонского. И они сказали друг другу: «Пойдем к родителям новорожденного и скажем им, что мы видели! Может статься, что мы получим от них в награду кошелек с червонцами или золотое запястье».
Мудрецы взяли свои длинные дорожные посохи и отправились в путь. Они прошли через город и вышли к городским воротам, но тут остановились в нерешительности, ибо перед ними расстилалась великая - сухая и восхитительная - пустыня, которой люди так страшатся. И тогда они увидели, что новая звезда отбросила на песок пустыни узкую полоску света, как бы манившую их за собой, и, исполнившись надежды, они двинулись вперед за путеводной звездой.
Всю ночь шли они по бесконечной пустыне, беседуя о новорожденном царе, которого, конечно, найдут в золотой колыбели играющим драгоценными камнями. И ночь пролетела незаметно в беседах о том, как предстанут они пред царем, отцом новорожденного, и пред его матерью-царицей и как поведают им о небесном знамении, предрекающем их сыну силу и могущество, красоту и счастье, какими не обладал царь Соломон…
Они гордились тем, что Бог избрал именно их и им дал увидеть рождественскую звезду. Они говорили себе, что родители новорожденного должны дать им в награду по меньшей мере двадцать кошельков с золотом, а может быть, и столько, что им никогда уже больше не придется знать нужду и лишения… Я, как лев, подстерегающий добычу, лежала в пустыне, - пояснила свой рассказ Засуха, - и собиралась обрушиться на этих путников всеми пытками жажды, но они ускользнули от меня. Звезда вела их всю ночь; утром же, когда небо посветлело и все другие звезды померкли, она настойчиво продолжала гореть и сиять над пустыней, пока не привела путников к оазису, где они нашли родник и деревья со спелыми плодами. Там они отдыхали весь день и двинулись далее лишь к ночи, когда снова увидели свет звезды, озаряющий собой пески пустыни.
Звезда не только вела, но и охраняла мудрецов от голода и жажды. Ни колючие кустарники, ни глубокие зыбучие пески, ни жгучее солнце, ни знойные пустынные бури не причиняли путникам вреда. И мудрецы понимали это. «Бог хранит нас и благословляет наше странствие. Мы его послы», - говорили они. Но и я не теряла времени зря, - усмехалась Засуха, - мало-помалу я все же прибрала их к рукам и завладела их сердцами. И они превратились в такую же мертвую пустыню, как та, по которой они шли. Они преисполнились бесплодной гордостью и опустошающей алчностью.
«Мы Божьи послы, - все чаще твердили мудрецы, - и если отец новорожденного подарит нам целый караван, груженный золотом, это, пожалуй, будет нелишним».
Наконец звезда привела их к реке Иордану и заставила подняться на холмы Иудейской страны. И однажды ночью она остановилась перед городком Вифлеемом, огни которого сверкали среди оливковых деревьев на одном из горных склонов.
Мудрецы стали озираться и искать, где же здесь дворцы, укрепленные башни, каменные стены и все, чему подобает быть в царской столице, но ничего такого не увидели. Хуже того: сияние звезды привело их вовсе не в город, оно остановилось на краю дороги, перед какой-то жалкой пещерой. Кроткий свет звезды озарил ее, и три странника увидели младенца, которого мать баюкала у себя на коленях.
Но хотя мудрецы ясно видели, как сияние звезды словно венцом окружило головку младенца, они остались стоять перед входом в пещеру. Они не вошли в нее, чтобы предсказать малютке славу и царскую власть, а повернули назад, ничем не выдав своего присутствия, и спустились вниз с холма.
«Неужели мы шли к нищим, столь же ничтожным и бедным, как мы сами? - говорили они. - Разве для того вел нас сюда Господь Бог, чтобы мы предрекли сыну пастуха величие и славу? Этот ребенок всю свою жизнь будет пасти свое овечье стадо. Вот какой будет его судьба».
Засуха умолкла и покачала головой. Всем своим видом она как бы хотела сказать: «Не правда ли, на свете нет ничего бесплоднее, чем человеческое сердце!»
- Мудрецы недалеко ушли от того места, - продолжила Засуха свой рассказ, - когда им пришло в голову, что, возможно, они заблудились, сбились с пути, указанного им звездой. Они подняли глаза, чтобы снова найти по звезде истинный путь. Но оказалось, что звезда, за которой они следовали с востока, исчезла с небесного свода.
Трое чужеземцев вздрогнули при этих словах, их лица выражали глубокое страдание.
- И тут случилось нечто, - продолжала рассказчица, - по мнению людей, в высшей мере радостное. Когда мудрецы увидели, что на небе нет больше звезды, они тотчас же поняли, что согрешили пред Богом. И с ними сделалось то же, что делается с землей в осеннюю пору, когда начинаются сильные дожди. Они задрожали от ужаса, как земля содрогается от ударов молнии и раскатов грома, сердца их смягчились, смирение пробилось в их сердца, как пробивается весной зеленая травка.
Три дня и три ночи бродили они по стране, чтобы отыскать младенца, которому должны были поклониться. Но звезда не показывалась им; они все больше и больше сбивались с пути, и все сильнее охватывали их величайшая скорбь и отчаяние. На третью ночь они подошли к этому вот колодцу, чтобы утолить жажду. И тогда Бог сжалился над ними и простил им их грех. Наклонившись над водой, они увидели глубоко внизу отражение звезды, приведшей их с востока.
Тотчас же увидели они ее и на небе, и звезда снова привела их к Вифлеемской пещере. Там они преклонили колени пред младенцем и сказали: «Мы приносим тебе золотые чаши, полные ладана и драгоценных благовоний. Ты будешь величайшим из царей, когда-либо правивших на земле от самого ее сотворения и до кончины мира».
Младенец положил свою ручку на их склоненные головы, и, когда они поднялись, оказалось, что он наделил их дарами, какими самый могущественный царь не мог бы одарить своих подданных. Ибо нищий старик обратился в цветущего юношу, прокаженный очистился, а негр стал прекрасным белолицым мужчиной. И говорят, что по возвращении на родину они сделались царями, каждый в своей стране.
Засуха кончила свое повествование, и три чужеземца похвалили ее рассказ.
- Ты хорошо все рассказала, - говорили они.
- Но не странно, - сказал один из чужеземцев, - что эти три мудреца ничего не сделали для колодца, показавшего им звезду? Неужели они совершенно забыли о таком благодеянии?
- Не должен ли этот колодец, - поддержал его другой чужеземец, - постоянно оставаться на своем месте для напоминания людям о том, что счастье, утраченное на вершинах горы, можно вновь обрести в глубинах смирения?
- Неужели умершие хуже живущих? - сказал третий из них. - Разве благодарность умирает в сердцах тех, кто обитает в раю?
Когда они произнесли это, Засуха с воплем соскочила с колодца. Она узнала чужеземцев; она поняла, кто эти путешественники, и, как безумная, бросилась прочь, чтобы не видеть, как три мудреца подозвали своих слуг и подвели к колодцу своих верблюдов, нагруженных мехами, и бедный, умирающий колодец наполнили водой, привезенной ими из рая…
Сельма Лагерлёф. Бегство в Египет.
Далеко, далеко, в одной из восточных пустынь, росла много лет тому назад очень старая и невероятно высокая пальма. Все, проходившие через пустыню, невольно останавливались и любовались ею, ибо она была гораздо выше и мощнее всех других пальм, и можно было сказать, что она превосходит своими размерами обелиски и пирамиды.
И вот однажды, когда эта высокая пальма стояла в своем уединении и созерцала пустыню, она увидела нечто до того удивительное, что могучая, увенчанная листьями верхушка ее закачалась от изумления. Вдали, по краю пустыни, шли два одиноких путника. Они находились еще на таком расстоянии, откуда верблюды кажутся маленькими, как муравьи, но совершенно несомненно было, что это два человека. Два чуждых пришельца в пустыне - пальма хорошо знала постоянных путников пустыни - мужчина и женщина без проводника, без вьючных животных, без шатра и мехов для воды.
- Наверное, - сказала пальма сама себе, - эти двое пришли сюда, чтоб умереть.
Она быстро осмотрелась кругом.
- Удивляюсь, сказала она, - что львы еще не вышли на охоту за этой добычей. Насколько я вижу, ни один из них даже и не шевельнулся. Не вижу я и разбойников. Но они еще явятся.
«Семь раз должны они умереть, - думала пальма. - Их сожрут львы, змеи умертвят их своими укусами, жажда иссушит их, пески погребут их под собой, их убьют разбойники, спалит солнечный зной, страх уничтожит их».
И она попыталась думать о чем-нибудь другом. Участь этих людей возбудила в ней грусть.
Но на всем пространстве пустыни, расстилавшейся под пальмой, не было ничего, что не было бы ей знакомо уже тысячи лет. Ничто не могло приковать к себе ее внимания. Поневоле ее мысли снова вернулись к двум путникам.
- Клянусь засухой и бурей! - сказала пальма, призывая в свидетели самых опасных врагов жизни. - Женщина что-то несет на руках. Никак эти безумцы захватили с собой еще маленького ребенка!
Пальма, дальнозоркая, как большинство стариков, не ошиблась. Женщина несла на руках ребенка, который спал, прислонившись к ее плечу.
- Ребенок почти голенький! - сказала пальма. - Я вижу, что мать прикрыла его полой своей одежды. Она схватила его, в чем он был, с постельки и стремительно бежала с ним.
Теперь я понимаю: эти люди - беглецы. Но все-таки они безумцы, - продолжала пальма. - Если только их не охраняют ангелы, им лучше было бы отдаться на произвол своих врагов, чем отправиться в пустыню.
Могу представить себе, как все это произошло. Отец стоял за работой, ребенок спал в колыбели, мать пошла за водой. Едва успела она отойти на несколько шагов от двери, как увидела приближающихся врагов. Она бросилась назад, схватила ребенка, крикнула мужу, чтобы он следовал за ней, и они побежали. И вот их бегство продолжается уже несколько дней; они, наверное, не отдыхали ни минуты. Да, именно так все это было; но я все-таки скажу, что если их не охраняют ангелы…
Они так испуганы, что пока еще не чувствуют ни усталости и никаких других страданий; но я вижу, как жажда горит в их глазах. Мне ли не знать лица человека, страдающего от жажды!
И когда пальма подумала о жажде, судорожная дрожь пробежала по длинному стволу, и бесчисленные перья ее длинных листьев съежились, как от огня.
- Если б я была человеком, - сказала она себе, - никогда бы я не отважилась выйти в пустыню. Большая нужна смелость для путешествия по ней, если не имеешь корней, достающих до никогда не иссякающих родников. Здесь даже для пальмы опасно. Даже для такой пальмы, как я.
Если бы я могла дать им совет, я бы уговорила их вернуться. Никакие враги не могут быть так жестоки к ним, как пустыня. Может быть, они думают, что в пустыне легко живется, но я-то знаю, что мне самой порой приходится трудно. Помню, однажды, в моей молодости, ураган нанес на меня целую гору песку. Я едва не задохнулась. Если б я могла умереть, это был бы мой последний час.
Пальма продолжала думать вслух по привычке одиноких стариков.
- Какой-то дивный мелодический шелест слышу я в своих ветвях, - говорила она. - Все перья моих листьев трепещут. Не знаю, что со мной делается при виде этих бедных чужеземцев. Но эта печальная женщина так прекрасна. Она приводит мне на память самое чудесное из всего, пережитого мной.
И под мелодичный шелест своих листьев пальма стала вспоминать, как однажды, много-много лет назад, оазис посетили двое прекрасных путников. Это царица Савская явилась сюда в сопровождении мудрого Соломона. Прекрасная царица возвращалась в свою страну; царь проводил ее часть пути, и теперь они должны были расстаться.
- На память об этой минуте, - сказала тогда царица, - я посажу в землю финиковую косточку. Я хочу, чтоб из нее выросла пальма, которая будет подниматься все выше и жить, пока в Иудейской стране не появится царь еще более великий, чем Соломон. - И, сказав это, она посадила косточку и полила ее своими слезами.
- Почему я вспоминаю об этом как раз сегодня? - подумала пальма. - Неужели эта женщина своей красотой напоминает мне прекраснейшую из цариц, по слову которой я выросла и жила до нынешнего дня? Я слышу, что листья мои шелестят все сильней и сильней, и шелест их звучит печально, как погребальная песнь. Они словно предсказывают, что кто-то вскоре должен уйти из жизни. Хорошо, что это относится не ко мне, ведь я не могу умереть.
Пальма решила, что печальный шелест ее листьев предсказывает гибель этих одиноких странников.
Они и сами, вероятно, думали, что близится их последний час. Это видно было по выражению их лиц, когда они проходили мимо одного из верблюжьих скелетов, лежавших около дороги, по взглядам, которым они провожали двух коршунов, пролетавших мимо.
Иначе и быть не могло. Они должны погибнуть.
П утники заметили пальму и оазис и поспешили туда, надеясь найти воду. Но когда они подошли, отчаяние овладело ими, ибо родник совершенно высох. Женщина в изнеможении опустила ребенка на землю и села, плача, на берегу родника. Мужчина бросился на песок возле нее; он лежал и колотил сухую землю кулаками. Пальма слышала, как они говорили между собой о том, что должны погибнуть.
утники заметили пальму и оазис и поспешили туда, надеясь найти воду. Но когда они подошли, отчаяние овладело ими, ибо родник совершенно высох. Женщина в изнеможении опустила ребенка на землю и села, плача, на берегу родника. Мужчина бросился на песок возле нее; он лежал и колотил сухую землю кулаками. Пальма слышала, как они говорили между собой о том, что должны погибнуть.
Она узнала также из их слов, что царь Ирод повелел умертвить всех вифлеемских мальчиков в возрасте от двух до трех лет, боясь, что среди них находится царь Иудейский, появление которого предсказали пророки.
- Все сильней шелестят мои листья, - сказала пальма. - Эти бедные беглецы скоро увидят свой последний час.
Она понимала, что они оба боятся пустыни. Мужчина говорил, что лучше бы им было остаться и вступить с воинами в бой, чем бежать сюда. Он говорил, что тогда они нашли бы себе более легкую смерть.
- Бог придет нам на помощь, - сказала женщина.
- Мы здесь одни среди хищных зверей и змей, - возразил мужчина. - У нас нет пищи и нет воды. Как может Бог помочь?
Он в отчаянии рвал свою одежду и прижимался лицом к земле. Он потерял всякую надежду, как человек, смертельно раненый в сердце.
Женщина сидела, выпрямившись и охватив руками колени. Но взгляды, которые она кидала вглубь пустыни, говорили о безутешном, безграничном отчаянии.
Пальма слышала, как печальный шелест ее листьев становился все сильней и сильней. Вероятно, и женщина услышала его, потому что подняла голову. И в этот же миг она невольно протянула руки вверх.
- О, финики, финики! - воскликнула она. Такая страстная надежда почувствовалась в ее голосе, что старая пальма готова была пожалеть, что она ростом не с небольшой куст и что ее финики не так же легко сорвать, как ягоды терновника. Она прекрасно знала, что ее верхушка вся увешана гроздьями фиников, но как достать их людям на такой головокружительной высоте.
Мужчина еще раньше видел, как высоко висели финики. Он даже головы не поднял, а только попросил жену не мечтать о невозможном.
Но ребенок, предоставленный самому себе и игравший поодаль палочками и соломинками, услышал восклицание матери.
 Ему, конечно, и в голову не приходило, что его мать не может получить всего, что ей только вздумается пожелать. Как только заговорили о финиках, он начал пристально смотреть на дерево.
Ему, конечно, и в голову не приходило, что его мать не может получить всего, что ей только вздумается пожелать. Как только заговорили о финиках, он начал пристально смотреть на дерево.
Он ломал себе головку над тем, как бы ему достать финики. Лобик его наморщился под светлыми кудрями. Наконец, улыбка мелькнула на его личике. Мальчик придумал способ.
Он подошел к пальме и стал гладить ее своей ручкой, говоря нежным детским голоском:
- Пальма, нагнись! Пальма, нагнись!
Но что это такое, что случилось? Листья пальмы зашумели, словно по ним пронесся ураган, и дрожь пробежала по ее длинному стволу. Пальма почувствовала, что ребенок сильнее ее. Она не могла ему противостоять.
И она склонилась своим высоким стволом перед младенцем, как склоняются люди перед царями. Могучей дугой нагнулась она к земле и, наконец, опустилась так низко, что верхушка ее с дрожащими листьями легла на песок пустыни.
Мальчик не выказал ни испуга, ни изумления; с радостным криком подбежал он ближе и стал срывать финики с верхушки старой пальмы.
Он нарвал много фиников, а дерево все еще продолжало лежать на земле, тогда мальчик снова подошел, снова ласково погладил его и нежно сказал:
- Пальма, поднимись! Поднимись, пальма!
И громадное дерево тихо и благоговейно выпрямило свой гибкий ствол, и листья его зазвенели, точно арфы.
- Теперь я знаю, кому они играли погребальную песню, - сказала сама себе старая пальма, когда выпрямилась во весь рост. - Не этим людям они ее играли.
Но мужчина и женщина стояли на коленях и возносили хвалу Богу.
- Ты видел наше горе и избавил нас от него. Ты - Господь всемогущий, сгибающий ствол пальмы, как тростник! Кого из наших врагов нам страшиться, когда сила твоя осеняет нас?
Вскоре после этого проезжал по пустыне караван, и путники увидели, что увенчанная листьями верхушка высокой пальмы высохла.
- Как могло это случиться? - сказал один из путешественников. - Ведь эта пальма не должна была умереть, пока не увидит царя, более великого, чем Соломон.
- Может быть, она и видела его, - ответил другой путник.
Рисунки Екатерины Гавриловой
Владимир Крупин. Деточки.
Наверное, все дети одинаковые - и в Москве, и в Вятке… На Рождество, глядя на ребятишек, вспоминаю свое детство. А ведь и я такой же был!
- А мы колядовать собираемся, - сообщил мне накануне соседский мальчик. - В прошлом году ходили, целую сумку набрали, и деньги даже давали.
- А что вы говорите, когда славите?
Мальчик задумался.
- Ну, в общем наряжаемся. Ромка - девчонкой, Мишка - ужастиком. Я так намазываюсь: щеки и нос красным, а глаза черным.
- Да, - согласился я, - это страшновато. Попробуй тут не положи в мешок… Мы тоже ходили в детстве. Я кое-что помню. Вы придите ко мне, что-нибудь разучим.
Мальчик умчался и мгновенно вернулся с друзьями. Они сказали, что говорят так: «Славите, славите, вы меня не знаете. Отворяйте сундучки, доставайте пятачки и конфеточки».
- А дальше? - спрашиваю.
- А дальше нам что-нибудь дадут, и мы идем дальше.
- Так зачем же вы тогда приходили, разве только за конфетами? Вы идете на Рождество, вы несете весть о рождении Сына Божьего. Вот главное в колядках. Давайте так… Вот вы говорите свои стихи и добавляйте после «конфеточек»: «Если будет и печенье, то прочтем стихотворенье». Его надо прочесть, если даже и не дадут печенье. Заучите: «В небе звездочки горят, о Христе нам говорят. У людей всех торжество - наступило Рождество». Это же радость - сообщить такую весть. Вы - вестники счастья, спасения… Я раз видел вас в церкви. Как там поют? Заучили? «Слава в вышних Богу…»
Мальчики подхватили:
- На земли мир, в человецех благоволение!
- Вот. И тропарь Рождеству… Знаете наизусть?
- Это Данила знает и Георгий, они батюшке помогают. Они тоже будут ходить.
Мои новые знакомые убежали, и когда вечером раздался бодрый стук в окно, я понял, что это они. Я был готов к встрече, сходил днем за пряниками, конфетами, печеньем. Пришли не только они, а целая группа, человек десять, - со звездой, пением коляды: «Коляда, коляда, открывайте ворота…». Меня осыпали горстью зерна и дружно запели: «Христос рождается, славите, Христос с небес, срящите, Христос на земле, возноситеся. Пойте Господеви вся земля и веселием воспойте люди, яко прославися».
Кого только не было среди колядочников. Снегурочка с длинной мочальной косой, красавица в кокошнике, мальчик, почему-то в иностранной шляпе, другой мальчик, раскрашенный разнообразно, третий в халате со звездами… Они дружно пропели тропарь Рождеству «Рождество твое, Христе Боже наш…», а потом просто запели: «Mы сеяли, сеяли…».
Я уж старался вознаградить такое усердие, как вдруг, болезненно охнув, повалилась на пол девчушка с косой. Все они вскрикнули, да так натурально, испуганно, что у меня сердце чуть не оборвалось. Мгновенно стал соображать, у кого из соседей есть телефон, чтобы звонить в больницу. Тут же думал: «Чего ей плохо? Или уморилась от голода, или, наоборот, конфет переела…»
- Доктора, доктора! - кричали дети.
И только когда явился «доктор», важный мальчик с нарисованными на лице очками, я с радостью понял, что все это нарочно. Доктор важно щупал пульс, глядя на часы, разогнулся, помолчал и сокрушенно вздохнул:
- Медицина, здесь бессильна.
- Знахаря, знахаря! - закричали девочки.
Пришел и знахарь в зипуне и лаптях. Стал обращаться с больной крайне небрежно: подергал за руки, за ноги. Сказал:
- Народная медицина здесь тоже бессильна.
Потом они гениально выдержали томительную паузу. Больная лежала, как мертвая. Потом та девочка, что звала доктора, всплеснула руками:
- Ой, я знаю, знаю! Ее спасут хоровод, танцы и песни!
- И вы с нами, - сказала девочка, - ее же надо оживлять!
Конечно, как я мог не участвовать в оживлении такой красавицы с длинной косой?! Мы прошли хоpоводом, пропели коляду. Я вспомнил давнее свое детство: «Я, малый хлопчик, принес Богу снопчик. Боже, снопчик прими, меня сохрани - и тятю, и маму, и нашу избу, и нашу деревню, и нашу судьбу». Красавица ожила.
Мы выпили лимонада, заели печеньем и пряниками. Вскоре они ушли. Но на прощание заставили спеть девочку, которая стояла в сторонке и молчала. И она, отчаянно стесняясь и тиская в руках варежки, тоненьким голоском запела:
Я пешком ходила в город Вифлеем.
И была в вертепе, и видала в нем,
Что Христос Спаситель, Царь, Творец и Бог,
Родился во хлеве и лежит убог.
И когда я Деве сделала вопрос,
Отчего так плачет Маленький Христос.
Дева мне сказала: «Плачет Он о том,
Что Aдам и Ева взяты в плен врагом,
И что образ Божий, данный их душам,
Отдан в поруганье злобнейшия врагам…»
Девочка не допела, вдруг расплакалась и выскочила за дверь.
Мальчики смущенно переминались:
- У нее длинная песня, она еще поет о розах, которые Христос раздал детям, а Себе оставил шипы от роз…
Ушли деточки. Ушли в лунную ночь, скрипя валеночками по рождественскому снегу. А лампадка красная в углу, будто звездочка, сошедшая с небес, пришла и остановилась у святых икон.
Марина Симакина. Лимон на елке.
История про самый сладкий подарок в жизни.
Р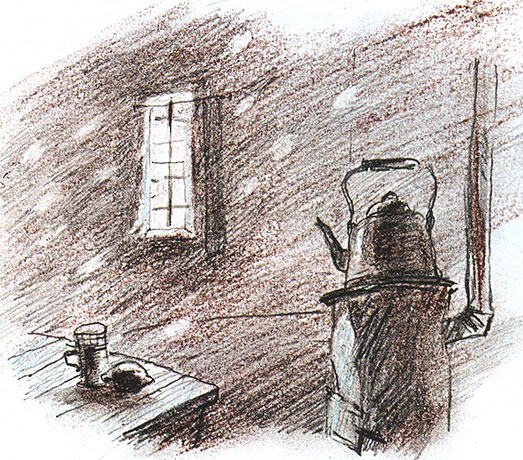 ождество и Новый год - любимейшие праздники у всех. Они заранее начинают волновать своим приближением. Пробежки по магазинам в поисках подарков для детей и друзей создают радостную суматоху. Хочется дарить и получать радость. И подарок - символ этой радости. А как приятно ожидать старта новой жизни, которая непременно! - начнется сразу же с первого января...
ождество и Новый год - любимейшие праздники у всех. Они заранее начинают волновать своим приближением. Пробежки по магазинам в поисках подарков для детей и друзей создают радостную суматоху. Хочется дарить и получать радость. И подарок - символ этой радости. А как приятно ожидать старта новой жизни, которая непременно! - начнется сразу же с первого января...
А у меня Новый год однажды наступил в октябре.
Я сильно простудилась, переболела. Придя в школу после болезни, тут же подхватила грипп, а через несколько дней покрылась ярко-красной сыпью. В районе бушевала корь. Прививки против кори тогда не делали, эпидемия распространялась быстро. Трое суток я лежала в полубессознательном состоянии с температурой выше 40. Врач детской поликлиники, пришедшая на дом по вызову, устало сказала, что ослабленный организм вряд ли справится с новой напастью и надо готовиться к худшему.
Отец отличался взрывным характером, и готовиться начал бурно: поднял на ноги всех знакомых и знакомых тех знакомых и нашел старенького профессора-педиатра, которого привез домой для консультации. Тогда частные визиты докторов не практиковались, старичок отчаянно упирался, боясь неприятностей, но сопротивляться отцу было невозможно.
И вот, доставленный под конвоем отца, озирающийся профессор входит в нашу комнату в коммуналке с дымящей печкой, видит плачущую маму и разметавшуюся в жару маленькую девочку с температурой 41, 1. Что он может сделать? Что ему посоветовать, когда лекарств почти нет, покупать фрукты зимой бюджет нашей семьи не позволяет, а витамины обычно набираются из варенья и квашеной капусты? И он посоветовал сделать мне ванну, чтобы снизить температуру, нарезать дольками лимон, пересыпать его сахаром и с ложечки вливать этот сок по капелькам в рот - сама есть и пить я не могла.
Казалось бы, чего проще? Но в нашей коммуналке не было ни ванны, ни душа, ни даже горячей воды. Мыться по субботам ходили в баню, а для стирки или мытья посуды воду грели в кастрюлях на плите. Но больному ребенку нужна ванна. Доктор сказал. Профессор! Воду нагрели на плите в ведрах, взятых у соседей, - у нас самих было только одно ведро. Большое корыто одолжили у жильцов с другого этажа, притащили в комнату и искупали меня, предварительно смерив температуру воды локтем. Оставив мать вычерпывать кастрюлей воду из корыта, отец пошел искать лимон.
Девять вечера. Магазины закрыты. Ночных магазинов тогда не существовало, да и днем-то торговать было особо нечем. Отец поехал в «Арагви» - ресторан в центре Москвы, в котором «все было», но безумно дорого. Лимоны там он увидел, но продать их ему отказались, - они предназначались только для клиентов. Отец прорвался на кухню поговорить с шеф-поваром. Как и о чем они говорили, он никогда не рассказывал.
Но лимон ему дали. Целый. Не бесплатно, как мне подумалось в первую минуту: дескать, пожалели умирающую девочку - у каждого есть свои дети, вот и вошли в положение... Но на кухне дорогого ресторана поступать в традициях рождественских историй не принято. Отец выложил за лимон месячную зарплату, за которой съездил домой, да еще пришлось подзанять у соседей, потому что часть денег из зарплаты уже была истрачена. И вдобавок отдал полученный за храбрость фронтовой серебряный портсигар. Именной. В нашей семье его ценили выше медалей: медали и ордена имелись почти у каждого оставшегося в живых фронтовика, а портсигар или именные часы - не у всех.
Отец сам нарезал лимон, пересыпал сахарным песком и аккуратно слил капельки сока, оставшиеся после резки на дощечке, в стакан. На лимон положили грузик, чтобы он быстрей пустил сок. Капал мне его с ложечки тоже отец, потому что боялся, что у наплакавшейся, перенервничавшей мамы будут дрожать руки, и она прольет драгоценную жидкость.
Когда я очнулась, отец сказал:
- С Новым годом!
После выздоровления я спросила, почему он меня поздравил с Новым годом осенью.
- С новым годом по календарю жизни, - коротко сказал отец.
Вот так я справила Новый год в октябре, получив лимон - сладкий дар жизни. Участковый врач потом сказала, что я выздоровела чудом. Волшебной палочкой, сотворившей чудо, стала любовь и энергия моего отца.
С тех пор каждый год на моей елке среди разноцветных шаров висит лимон, перевязанный яркими нитями «дождика» - золотой шар в память о моем отце, давшем мне жизнь и спасшем ее.
Рисунок Екатерины Гавриловой.
Г. Х. Андерсен. Ель.
Стояла в лесу этакая славненькая елочка; место у нее было хорошее: и солнышко ее пригревало, и воздуха было вдосталь, а вокруг росли товарищи постарше, ель да сосна. Только не терпелось елочке самой стать взрослой: не думала она ни о теплом солнышке, ни о свежем воздухе; не замечала и говорливых деревенских детишек, когда они приходили в лес собирать землянику или малину. Наберут полную кружку, а то нанижут ягоды на соломины, подсядут к елочке и скажут:
- Какая славная елочка!
А ей хоть бы и вовсе не слушать таких речей.
Через год подросла елочка на один побег, через год вытянулась еще немножко; так, по числу побегов, всегда можно узнать, сколько лет росла елка.
- Ах, быть бы мне такой же большой, как другие! - вздыхала елка. - Уж как бы широко раскинулась я ветвями да выглянула макушкой на вольный свет! Птицы вили бы гнезда у меня в ветвях, а как подует ветер, я кивала бы с достоинством, не хуже других!
И не были ей в радость ни солнце, ни птицы, ни алые облака, утром и вечером проплывавшие над нею.
Когда стояла зима и снег лежал вокруг искрящейся белой пеленой, ч астенько являлся вприпрыжку заяц и перескакивал прямо через елочку - такая обида! Но прошло две зимы, и на третью елка так подросла, что зайцу уже приходилось обегать ее кругом.
астенько являлся вприпрыжку заяц и перескакивал прямо через елочку - такая обида! Но прошло две зимы, и на третью елка так подросла, что зайцу уже приходилось обегать ее кругом.
«Ах! Вырасти, вырасти, стать большой и старой - лучше этого нет ничего на свете!» - думала елка.
По осени в лес приходили дровосеки и валили сколько-то самых больших деревьев. Так случалось каждый год, и елка, теперь уже совсем взрослая, всякий раз трепетала, - с таким стоном и звоном падали наземь большие прекрасные деревья. С них срубали ветви, и они были такие голые, длинные, узкие - просто не узнать. Но потом их укладывали на повозки, и лошади увозили их прочь из лесу. Куда? Что их ждало?
Весной, когда прилетели ласточки и аисты, елка спросила у них:
- Вы не знаете, куда их увезли? Они вам не попадались?
Ласточки не знали, но аист призадумался, кивнул головой и сказал:
- Пожалуй, что знаю. Когда я летел из Египта, мне встретилось много новых кораблей с великолепными мачтами. По-моему, это они и были, от них пахло елью. Я с ними много раз здоровался, и голову они держали высоко, очень высоко.
- Ах, если б и я была взрослой и могла поплыть через море! А какое оно из себя, это море? На что оно похоже?
- Ну, это долго рассказывать, - ответил аист и улетел.
- Радуйся своей молодости! - говорили солнечные лучи. - Радуйся своему здоровому росту, юной жизни, которая играет в тебе!
И ветер ласкал елку, и роса проливала над ней слезы, но она этого не понимала.
Как подходило рождество, рубили в лесу совсем юные елки, иные из них были даже моложе и ниже ростом, чем наша, которая не знала покоя и все рвалась из лесу. Эти деревца, а они, кстати сказать, были самые красивые, всегда сохраняли свои ветки, их сразу укладывали на повозки, и лошади увозили их из лесу.
- Куда они? - спрашивала елка. - Они ведь не больше меня, а одна так и вовсе меньше. Почему они сохранили все свои ветки? Куда они едут?
- Мы знаем! Мы знаем! - чирикали воробьи. - Мы бывали в городе и заглядывали в окна! Мы знаем, куда они едут! Их ждет такой блеск и слава, что и не придумаешь! Мы заглядывали в окна, мы видели! Их сажают посреди теплой комнаты и украшают замечательными вещами - золочеными яблоками, медовыми пряниками, игрушками и сотнями свечей!
- А потом? - спрашивала елка, трепеща ветвями. - А потом? Потом что?
- Больше мы ничего не видали! Это было бесподобно!
- А может, и мне суждено пойти этим сияющим путем! - ликовала елка. - Это еще лучше, чем плавать по морю. Ах, как я томлюсь! Хоть бы поскорей опять рождество! Теперь и я такая же большая и рослая, как те, которых увезли в прошлом году. Ах, только бы мне попасть на повозку! Только бы попасть в теплую комнату со всей этой славой и великолепием! А потом?.. Ну, а потом будет что-то еще лучше, еще прекраснее, а то к чему же еще так наряжать меня? Уж конечно, потом будет что-то еще более величественное, еще более великолепное! Но что? Ах, как я тоскую, как томлюсь! Сама не знаю, что со мной делается!
- Радуйся мне! - говорили воздух и солнечный свет. - Радуйся своей юной свежести здесь, на приволье!
Но она ни капельки не радовалась; она росла и росла, зиму и лето стояла она зеленая; темно-зеленая стояла она, и все, кто ни видел ее, говорили: «Какая славная елка!» - и под рождество срубили ее первую. Глубоко, в самое нутро ее вошел топор, елка со вздохом пала наземь, и было ей больно, было дурно, и не могла она думать ни о каком счастье, и тоска была разлучаться с родиной, с клочком земли, на котором она выросла: знала она, что никогда больше не видать ей своих милых старых товарищей, кустиков и цветов, росших вокруг, а может, даже и птиц. Отъезд был совсем невеселым.
Очнулась она, лишь когда ее сгрузили во дворе вместе с остальными и чей-то голос сказал:
- Вот эта просто великолепна! Только эту!
Пришли двое слуг при полном параде и внесли елку в большую красивую залу. Повсюду на стенах висели портреты, на большой изразцовой печи стояли китайские вазы со львами на крышках; были тут кресла-качалки, шелковые диваны и большие столы, а на столах книжки с картинками и игрушки, на которые потратили, наверное, сто раз по сто риксдалеров, - во всяком случае, дети говорили так. Елку поставили в большую бочку с песком, но никто бы и не подумал, что это бочка, потому что она была обернута зеленой материей, а стояла на большом пестром ковре. Ах, как трепетала елка! Что-то будет теперь? Девушки и слуги стали наряжать ее. На ветвях повисли маленькие сумочки, вырезанные из цветной бумаги, и каждая была наполнена сластями; золоченые яблоки и грецкие орехи словно сами выросли на елке, и больше ста маленьких свечей, красных, белых и голубых, воткнули ей в ветки, а на ветках среди зелени закачались куколки, совсем как живые человечки - елка еще ни разу не видела таких, - закачались среди зелени, а вверху, на самую макушку ей посадили усыпанную золотыми блестками звезду. Это было великолепно, совершенно бесподобно…
- Сегодня вечером, - говорили все, - сегодня вечером она засияет! «Ах! - подумала елка. - Скорей бы вечер! Скорей бы зажгли свечи! И что же будет тогда? Уж не придут ли из леса деревья посмотреть на меня? Уж не слетятся ли воробьи к окнам? Уж не приживусь ли я здесь, уж не буду ли стоять разубранная зиму и лето?»
Да, она изрядно во всем разбиралась и томилась до того, что у нее прямо-таки раззуделась кора, а для дерева это все равно что головная боль для нашего брата.
И вот зажгли свечи. Какой блеск, какое великолепие! Елка затрепетала всеми своими ветвями, так что одна из свечей пошла огнем по ее зеленой хвое; горячо было ужасно.
- Господи помилуй! - закричали девушки и бросились гасить огонь. Теперь елка не смела даже и трепетать. О, как страшно ей было! Как боялась она потерять хоть что-нибудь из своего убранства, как была ошеломлена всем этим блеском… И тут распахнулись створки дверей, и в зал гурьбой ворвались дети, и было так, будто они вот-вот свалят елку. За ними степенно следовали взрослые. Малыши замерли на месте, но лишь на мгновение, а потом пошло такое веселье, что только в ушах звенело. Дети пустились в пляс вокруг елки и один за другим срывали с нее подарки.
 «Что они делают? - думала елка. - Что будет дальше?»
«Что они делают? - думала елка. - Что будет дальше?»
И выгорали свечи вплоть до самых ветвей, и когда они выгорели, их потушили, и дозволено было детям обобрать елку. О, как они набросились на нее! Только ветки затрещали. Не будь она привязана макушкой с золотой звездой к потолку, ее бы опрокинули.
Дети кружились в хороводе со своими великолепными игрушками, а на елку никто и не глядел, только старая няня высматривала среди ветвей, не осталось ли где забытого яблока или финика.
- Сказку! Сказку! - закричали дети и подтащили к елке маленького толстого человечка, и он уселся прямо под ней.
- Так мы будем совсем как в лесу, да и елке не мешает послушать, - сказал он, - только я расскажу всего одну сказку. Какую хотите: про Иведе-Аведе или про Клумпе-Думпе, который с лестницы свалился, а все ж таки в честь попал да принцессу за себя взял?
- Про Иведе-Аведе! - кричали одни.
- Про Клумпе-Думпе! - кричали другие.
И был шум и гам, одна только елка молчала и думала: «А я-то что же, уж больше не с ними, ничего уж больше не сделаю?» Она свое отыграла, она, что ей было положено, сделала.
И толстый человечек рассказал про Клумпе-Думпе, что с лестницы свалился, а все ж таки в честь попал да принцессу за себя взял. Дети захлопали в ладоши, закричали: «Еще, еще расскажи!», им хотелось послушать и про Иведе-Аведе, но пришлось остаться при Клумпе-Думпе. Совсем притихшая, задумчивая стояла елка, птицы в лесу ничего подобного не рассказывали. «Клумпе-Думпе с лестницы свалился, а все ж таки принцессу за себя взял! Вот, вот, бывает же такое на свете!» - думала елка и верила, что все это правда, ведь рассказывал-то такой славный человек. «Вот, вот, почем знать? Может, и я с лестницы свалюсь и выйду за принца». И она радовалась, что назавтра ее опять украсят свечами и игрушками, золотом и фруктами. «Уж завтра-то я не буду так трястись! - думала она. - Завтра я вдосталь натешусь своим торжеством. Опять услышу сказку про Клумпе-Думпе, а может, и про Иведе-Аведе». Так, тихая и задумчивая, простояла она всю ночь.
Поутру пришел слуга со служанкой.
«Сейчас меня опять начнут наряжать!» - подумала елка. Но ее волоком потащили из комнаты, потом вверх по лестнице, потом на чердак, а там сунули в темный угол, куда не проникал дневной свет.
«Что бы это значило? - думала елка. - Что мне тут делать? Что я могу тут услышать?» И она прислонилась к стене и так стояла и все думала, думала. Времени у нее было достаточно. Много дней и ночей миновало; на чердак никто не приходил. А когда наконец кто-то пришел, то затем лишь, чтобы поставить в угол несколько больших ящиков. Теперь елка стояла совсем запрятанная в угол, о ней как будто окончательно забыли.
«На дворе зима! - подумала она. - Земля затвердела и покрылась снегом, люди не могут пересадить меня, стало быть, я, верно, простою тут под крышей до весны. Как умно придумано! Какие они все-таки добрые, люди!.. Вот если б только тут не было так темно, так страшно одиноко… Хоть бы один зайчишка какой! Славно все-таки было в лесу, когда вокруг снег, да еще заяц проскочит, пусть даже и перепрыгнет через тебя, хотя тогда-то я этого терпеть не могла. Все-таки ужасно одиноко здесь наверху!»
- Пип! - сказала вдруг маленькая мышь и выскочила из норы, а за нею следом еще одна малышка. Они обнюхали елку и стали шмыгать по ее ветвям.
- Тут жутко холодно! - сказали мыши. - А то бы просто благодать! Правда, старая елка?
- Я вовсе не старая! - отвечала елка. - Есть много деревьев куда старше меня!
- Откуда ты? - спросили мыши. - И что ты знаешь? - Они были ужасно любопытные. - Расскажи нам про самое чудесное место на свете! Ты была там? Ты была когда-нибудь в кладовке, где на полках лежат сыры, а под потолком висят окорока, где можно плясать по сальным свечам, куда войдешь тощей, откуда выйдешь жирной?
- Не знаю я такого места, - сказала елка, - зато знаю лес, где солнце светит и птицы поют!
И рассказала елка все про свою юность, а мыши отродясь ничего такого не слыхали и, выслушав елку, сказали:
- Ах, как много ты видела! Ах, как счастлива ты была!
- Счастлива? - переспросила елка и задумалась над своими словами. - Да, пожалуй, веселые были денечки!
И тут рассказала она про сочельник, про то, как ее разубрали пряниками и свечами.
- О! - сказали мыши. - Какая же ты была счастливая, старая елка!
- Я вовсе не старая! - сказала елка. - Я пришла из лесу только нынешней зимой! Я в самой поре! Я только что вошла в рост!
- Как славно ты рассказываешь! - сказали мыши и на следующую ночь привели с собой еще четырех послушать ее, и чем больше елка рассказывала, тем яснее припоминала все и думала: «А ведь и в самом деле веселые были денечки! Но они вернутся, вернутся. Клумпе-Думпе с лестницы свалился, а все ж таки принцессу за себя взял, так, может, и я за принца выйду!» И вспомнился елке этакий хорошенький молоденький дубок, что рос в лесу, и был он для елки настоящий прекрасный принц.
- А кто такой Клумпе-Думпе? - спросили мыши.
И елка рассказала всю сказку, она запомнила ее слово в слово. И мыши подпрыгивали от радости чуть ли не до самой ее верхушки.
На следующую ночь мышей пришло куда больше, а в воскресенье явились даже две крысы. Но крысы сказали, что сказка вовсе не так уж хороша, и мыши очень огорчились, потому что теперь и им сказка стала меньше нравиться.
- Вы только одну эту историю и знаете? - спросили крысы.
- Только одну! - отвечала елка. - Я слышала ее в самый счастливый вечер всей моей жизни, но тогда я и не думала, как счастлива я была.
- Чрезвычайно убогая история! А вы не знаете какой-нибудь еще - со шпиком, с сальными свечами? Истории про кладовую?
- Нет, - отвечала елка.
- Так премного благодарны! - сказали крысы и убрались восвояси. Мыши в конце концов тоже разбежались, и тут елка сказала, вздыхая: - А все ж хорошо было, когда они сидели вокруг, эти резвые мышки, и слушали, что я им рассказываю! Теперь и этому конец. Но уж теперь-то я не упущу случая порадоваться, как только меня снова вынесут на белый свет!
Но когда это случилось… Да, это было утром, пришли люди и шумно завозились на чердаке. Ящики передвинули, елку вытащили из угла; ее, правда, больнехонько шваркнули об пол, но слуга тут же поволок ее к лестнице, где брезжил дневной свет.
«Ну вот, это начало новой жизни!» - подумала елка. Она почувствовала свежий воздух, первый луч солнца, и вот уж она на дворе. Все произошло так быстро; елка даже забыла оглядеть себя, столько было вокруг такого, на что стоило посмотреть. Двор примыкал к саду, а в саду все цвело. Через изгородь перевешивались свежие, душистые розы, стояли в цвету липы, летали ласточки. «Вить-вить! Вернулась моя женушка!» - щебетали они, но говорилось это не про елку.
«Уж теперь-то я заживу», - радовалась елка, расправляя ветви. А ветви-то были все высохшие да пожелтевшие, и лежала она в углу двора в крапиве и сорняках. Но на верхушке у нее все еще сидела звезда из золоченой бумаги и сверкала на солнце.
Во дворе весело играли дети - те самые, что в сочельник плясали вокруг елки и так радовались ей. Самый младший подскочил к елке и сорвал звезду.
- Поглядите, что еще осталось на этой гадкой старой елке! - сказал он и стал топтать ее ветви, так что они захрустели под его сапожками.
А елка взглянула на сад в свежем убранстве из цветов, взглянула на себя и пожалела, что не осталась в своем темном углу на чердаке; вспомнила свою свежую юность в лесу, и веселый сочельник, и маленьких мышек, которые с таким удовольствием слушали сказку про Клумпе-Думпе.
- Конец, конец! - сказало бедное деревцо. - Уж хоть бы я радовалась, пока было время. Конец, конец!
Пришел слуга и разрубил елку на щепки - вышла целая охапка; жарко запылали они под большим пивоваренным котлом; и так глубоко вздыхала елка, что каждый вздох был как маленький выстрел; игравшие во дворе дети сбежались к костру, уселись перед ним и, глядя в огонь, кричали:
- Пиф-паф!
А елка при каждом выстреле, который был ее глубоким вздохом, вспоминала то солнечный летний день, то звездную зимнюю ночь в лесу, вспоминала сочельник и сказку про Клумпе-Думпе - единственную, которую слышала и умела рассказывать… Так она и сгорела.
Мальчишки играли во дворе, и на груди у самого младшего красовалась звезда, которую носила елка в самый счастливый вечер своей жизни; он прошел, и с елкой все кончено, и с этой историей тоже. Кончено, кончено, и так бывает со всеми историями.
Г.Х.Андерсен. Последний сон старого дуба (рождественская сказка).
В лесу, высоко на круче, на открытом берегу моря стоял старый-престарый дуб, и было ему ровно триста шестьдесят пять лет, - срок немалый, ну а для дерева это все равно что для нас, людей, столько же суток. Мы бодрствуем днем, спим и видим сны ночью. С деревом дело обстоит иначе: дерево бодрствует три времени года и засыпает только к зиме. Зима - время его сна, его ночь после долгого дня - весны, лета и осени.
В теплые летние дни вокруг его кроны плясали мухи-поденки; они жили, порхали и были счастливы, а когда одно из этих крошечных созданий в тихом блаженстве опускалось отдохнуть на большой свежий лист, дуб всякий раз говорил:
- Бедняжка! Вся твоя жизнь - один-единственный день! Такая короткая... Как печально!
- Печально? - отвечала поденка. - О чем это ты? Кругом так светло, тепло и чудесно! Я так рада!
- Да ведь всего один день - и конец!
- Конец? - говорила поденка. - Чему конец? И тебе тоже?
- Нет, я-то, может, проживу тысячи твоих дней, мой день тянется целые времена года! Ты даже и сосчитать не можешь, как это долго!
- Нет, не понимаю я тебя! У тебя тысячи моих дней, а у меня тысячи мгновений, и в каждом радость и счастье! Ну, а разве с твоей смертью умрет и вся краса мира?
- Нет, - отвечал дуб. - Мир будет существовать куда дольше, бесконечно, я и представить себе не могу, как долго!
- Так, значит, нам с тобой дано поровну, только считаем мы по-разному!
И поденка плясала и кружилась в воздухе, радовалась своим нежным, изящным, прозрачно-бархатистым крылышкам, радовалась теплому воздуху, напоенному запахом клевера, шиповника, бузины и жимолости. А как пахли ясменник, примулы и мята! Воздух был такой душистый, что впору было захмелеть от него. Что за долгий и чудный был день, полный радости и сладостных ощущений! А когда солнце садилось, мушка чувствовала такую приятную усталость, крылья отказывались ее носить, она тихо опускалась на мягкую колеблющуюся былинку, сникала головой и сладко засыпала. Это была смерть.
- Бедняжки! - говорил дуб. - Уж слишком короткая у них жизнь!
И каждый летний день повторялась та же пляска, тот же разговор, ответ и засыпание; так повторялось с целыми поколениями поденок, и все они были одинаково веселы, одинаково счастливы.
Дуб бодрствовал свое утро - весну, свой полдень - лето и свой вечер - осень, наступала пора засыпать и ему, приближалась его ночь - зима.
Вот запели бури: "Покойной ночи! Покойной ночи! Тут лист упал, там лист упал! Мы их обрываем, мы их обрываем! Постарайся заснуть! Мы тебя убаюкаем, мы тебя укачаем! Не правда ли, как хорошо твоим старым ветвям? Их так и ломит от удовольствия! Спи сладко, спи сладко! Это твоя триста шестьдесят пятая ночь, ведь ты еще все равно что годовалый малыш! Спи сладко! Облака сыплют снег, он ляжет простыней, мягким покрывалом вокруг твоих ног! Спи сладко, приятных тебе снов!"
И дуб сбросил с себя листву, собравшись на покой, готовясь уснуть, провести в грезах всю долгую зиму, видеть во сне картины пережитого, как видят их во сне люди.
Он тоже был когда-то маленьким, и колыбелью ему был желудь. По человеческому счету он был теперь на сороковом десятке. Больше, великолепнее его не было дерева в лесу. Вершина его высоко возносилась над всеми деревьями и была видна с моря издалека, служила приметой для моряков. А дуб и не знал о том, сколько глаз искало его. В его зеленой кроне гнездились лесные голуби, куковала кукушка, а осенью, когда листья его казались выкованными из меди, на ветви присаживались перелетные птицы, отдохнуть перед тем, как пуститься через море. Но сейчас, зимой, дуб стоял без листьев, и видно было, какие у него изгибистые, узловатые сучья; вороны и галки по очереди садились на них и говорили о том, какая тяжелая настала пора, как трудно будет зимой добывать прокорм.
В ночь под рождество дубу приснился самый чудный сон его жизни. Послушаем же!
Он как будто чувствовал, что время настало праздничное, ему слышался вокруг звон колоколов, грезился теплый тихий летний день. Он широко раскинул свою могучую зеленую крону; между его ветвями и листьями играли солнечные лучи, воздух был напоен ароматом трав и кустов; пестрые бабочки гонялись друг за другом; мухи-поденки плясали, как будто все только и существовало для их пляски и веселья. Все, что из года в год переживал и видел вокруг себя дуб, проходило теперь перед ним словно в праздничном шествии. Ему виделись конные рыцари и дамы прошлых времен, с перьями на шляпах и соколами на руке. Они проезжали через лес, трубил охотничий рог, лаяли собаки. Ему виделись вражеские солдаты в блестящих латах и пестрых одеждах, с пиками и алебардами; они разбивали палатки, а затем снимали их. Пылали бивачные костры, люди пели и спали под широко раскинувшимися ветвями дуба. Ему виделись счастливые влюбленные, они встречались здесь в лунном свете и вырезали первую букву своих имен на его иссера-зеленой коре. Веселые странствующие подмастерья, бывало, - с тех пор прошло много, много лет, - развешивали на его ветвях цитры и эоловы арфы, и теперь они висели опять и звучали опять так призывно. Лесные голуби ворковали, словно хотели рассказать, что чувствовало при этом дерево, кукушка куковала, сколько летних дней ему еще осталось жить.
И вот словно новый поток жизни заструился в нем от самых маленьких корешков до самых высоких ветвей и листьев. И чудилось ему, что он потягивается, чуялась жизнь и тепло в корнях там, под землей, чуялось, как прибывают силы. Он рос все выше и выше, ствол быстро, безостановочно тянулся ввысь, крона становилась все гуще, все пышнее, все раскидистее. И чем больше вырастало дерево, тем больше росла в нем радостная жажда вырасти еще выше, подняться к самому солнцу, сверкающему и горячему.
Вершина дуба уже поднялась над облаками, которые неслись внизу, как стаи перелетных птиц или белых лебедей.
Дуб видел каждым листком своим, словно у каждого были глаза. Он видел и звезды среди дня, и были они такие большие, блестящие! Каждая светилась, словно пара ясных, кротких очей, напоминая о других знакомых глазах - глазах детей и влюбленных, которые встречались под его кроной.
Дуб переживал чудные, блаженные мгновенья. И все-таки ему недоставало его лесных друзей... Ему так хотелось, чтобы и все другие деревья, все кусты, травы и цветы поднялись вместе с ним, ощутили ту же радость, увидели тот же блеск, что и он. Могучий дуб даже и в эти минуты блаженного сна не был вполне счастлив: ему хотелось разделить свое счастье со всеми - и малыми и большими, и чувство это трепетало в каждой его ветке, каждом листке страстно и горячо, словно в человеческой груди.
Крона дуба шевелилась, словно искала чего-то, словно ей чего-то недоставало; он поглядел вниз и вдруг услышал запах ясменника, а потом и еще более сильный запах жимолости и фиалок, и ему показалось даже, что он слышит кукушку.
И вот сквозь облака проглянули зеленые верхушки леса. Дуб увидал под собой другие деревья, они тоже росли и тянулись вверх; кусты и травы тоже. Некоторые даже вырывались из земли с корнями, чтобы лететь быстрее. Впереди всех была береза; словно белая молния, устремлялся вверх ее стройный ствол, ветви развевались, как зеленые покрывала и знамена. Все лесные растения, даже коричневые султаны тростника, поднимались к облакам; птицы с песнями летели за ними, а на былинке, зыбившейся на ветру, как длинная зеленая лента, сидел кузнечик и наигрывал крылышком на своей тонкой ножке. Гудели майские жуки, жужжали пчелы, заливались во все горло птицы; все в поднебесье пело и ликовало.
"А где же красный водяной цветок? Пусть и он будет с нами! - сказал дуб. - И голубой колокольчик, и малютка маргаритка!"
Дуб всех хотел видеть возле себя.
"Мы тут, мы тут!" - раздалось со всех сторон.
"А красивый прошлогодний ясменник? А ковер ландышей, что расстилался здесь год назад? А чудесная дикая яблонька и все те, кто украшал лес много, много лет? Если б они дожили до этого мгновенья, они были бы с нами!"
"Мы тут, мы тут!" - раздалось в вышине, будто отвечавшие пролетели как раз над ним.
"Нет, до чего же хорошо, просто не верится! - ликовал старый дуб. - Они все тут со мной, и малые и большие! Ни один не забыт! Возможно ли такое счастье?"
"Все возможно!" - прозвучало в ответ.
И старый дуб, не перестававший расти, почувствовал вдруг, что совсем отделяется от земли.
"Ничего не может быть лучше! - сказал он. - Теперь меня не удерживают никакие узы! Я могу взлететь к самому источнику света и блеска! И все мои дорогие друзья со мною! И малые и большие - все!"
"Все!"
Вот что снилось старому дубу. И пока он грезил, над землей и морем бушевала страшная буря - это было в рождественскую ночь. Море накатывало на берег тяжелые валы, дуб скрипел и трещал и был вырван с корнями в ту самую минуту, когда ему снилось, что он отделяется от земли. Дуб рухнул... Триста шестьдесят пять лет его жизни стали теперь как один день для мухи-поденки.
В рождественское утро, когда взошло солнце, буря утихла. Празднично звонили колокола, изо всех труб, даже из трубы самой бедной хижины, вился голубой дымок, словно жертвенный фимиам в праздник друидов. Море все более успокаивалось, и на большом корабле, выдержавшем ночную бурю, подняли нарядные рождественские флаги.
- А дерева-то нет больше! Ночная буря сокрушила старый дуб, нашу примету на берегу! - сказали моряки. - Кто нам его заменит? Никто!
Вот какою надгробною речью, краткою, но сказанною от чистого сердца, почтили моряки старый дуб, поверженный бурей на снежный покров. Донеслась до дуба и старинная песнь, пропетая моряками. Они пели о рождестве, и звуки песни возносились высоко-высоко к небу, как возносился к нему в своем последнем сне старый дуб.
Фарли Донна. Последнее окно
(рождественское фэнтези с послесловием о. Максима Козлова)
Англоязычная религиозная фантастика, естественно, почти целиком представлена католиками и протестантами. Однако и здесь все же имеется один яркий пример раскрытия православной тематики - творчество канадской писательницы Донна Фарли.
Принявшая в молодости Православие, Донна ныне - "матушка", жена православного священника отца Лоуренса Фарли, который служит в храме святого Германа Аляскинского (Лэнгли, Канада). Этот приход относится к Американской Православной Церкви, распространяющей свою юрисдикцию на весь Североамериканский континент.
Отец Лоуренс регулярно публикует статьи на богословскую и богослужебную тематику. В семье две дочери, которые также очень любят писать, и, как шутит сама матушка Донна - "один лишь кот в нашей семье не писатель".
Но и это отчасти компенсировано писательским вниманием со стороны хозяйки - ведь дебютировала она в 1987 году как раз в антологии "Catfantastic" с рассказом "It Must Be Some Place". С тех пор она опубликовала несколько десятков рассказов а таких изданиях как "On Spec" (ведущий канадский фантастический журнал), "Horizons SF", "Weird Tales", "Cicada", "Realms of Fantasy", "Worlds of Fantasy and Horror", "Dreams and Visions" (журнал христианской фантастики) и др.
Кроме фантастической прозы, матушка пишет поэзию и книги по церковной тематике, а также ведет постоянную колонку в женском православной журнале "The Handmaiden".
Последнее окно
М есто я нашел без труда - то была заброшенная церковь среди полудюжины утлых построек; развалины городка в прериях, которого не стало, когда новую железную дорогу пустили стороной, не стало еще задолго до Войны. Крошечное здание было, тем не менее, увенчано куполом, который блестел бы, будь на небе Солнце.
есто я нашел без труда - то была заброшенная церковь среди полудюжины утлых построек; развалины городка в прериях, которого не стало, когда новую железную дорогу пустили стороной, не стало еще задолго до Войны. Крошечное здание было, тем не менее, увенчано куполом, который блестел бы, будь на небе Солнце.
На стене у двери было что-то написано по-славянски. Надпись наполовину осыпалась, но имя Святого Николая вызвало у меня улыбку - впервые за долгое время.
Впрочем, веселиться было некогда. Я с маху выломал замок и вошел.
Внутри шаром покати - только возвышение в центре, на месте алтаря. Должно быть, иконы сняли и вынесли, когда обезлюдел город, но с потолка и стен... смотрели глаза.
Я не без робости огляделся: по доброй воле ни один из нас не зашел бы в церковь. Эту давно забросили, но все равно я чуял некую силу в нарисованных образах. Восточная стена изображала Воскресение, с потолка глядели Спаситель и Богоматерь с простертыми в молитве руками. В простенках между окнами, по три на каждой стороне, были нарисованы святые, все в разных одеяниях и со своими знаками.
Я сразу узнал Николая, седовласого, в красных одеждах. Большие, умные глаза на иконе были в точности как у самого Николая - каким я его знал.
Затем у двери появилась моя жертва - измученная, упавшая духом женщина. Вряд ли ей достанет сил пережить эту ночь. И Джек Фрост должен положить конец ее жизни...
Я стал справа от двери и как только она вошла, дохнул на нее холодом.
Женщина съежилась. Вытянув затянутую в перчатку руку, она шагнула вперед, в темноту. Я поддержал ее под локоть, тронул холодным пальцем запястье. Она была молода и здорова, разве только ослаблена недоеданием. Даже одета довольно тепло...
Чтобы убить ее, придется долго работать, но я терпелив и милосерден. Заняться в канун Рождества мне больше было нечем, и я приготовился трудиться всю ночь.
А вот чего не ожидал, так это что она меня... увидит.
Женщина резко обернулась и вскрикнула, как загнанный зверь. Я опустил руки, изумленно глядя в ее побелевшее лицо.
- Нет, нет. Нет, - бормотала она, отступая, но сзади была стена с иконой Святого Николая. Не видя нарисованной фигуры, возвышавшейся за ее спиной, женщина застыла на месте, впившись в меня глазами.
Думаю, я выглядел не лучше ее.
- Ты не должна меня видеть, - наконец, вымолвил я.
Все еще парализованная ужасом, она прошептала:
- О Господи... Для галлюцинации ты слишком настоящий. Кто ты?
Прежде мне не случалось разговаривать с людьми. И что я должен был ей ответить?
Правду, прошипел тлеющий в моем сердце уголек. Он вдруг набрал силу и уже прожигал в окружавшей его ледяной скорлупе путь на свободу. Я чуть не согнулся пополам от неожиданности и боли, но совладал с собою.
- Ты... с тобой все хорошо? - спросила она.
Я мрачно кивнул.
- Я Джек Фрост.
Она нервно рассмеялась.
- Отлично, Джек. Я Кэтрин Уильямс. Рада знакомству.
И, сняв перчатку, протянула мне маленькую, изящную руку. Не зная, что делать, я пожал ее.
- Руки у тебя как лед! - ахнула она, высвободила ладонь, подышала на нее и сунула ее в перчатку. - Что ж, холодные руки - теплое сердце, верно? И чем ты занимался до Войны с таким именем, Джек Фрост? Рок-музыкой? Или фантастику писал?
- Я художник.
Искорка в моем сердце прожгла в ледяной броне еще одну брешь.
Она изумленно выдохнула. Облачко на миг задержалось у лица - и исчезло.
- Да уж. Даже после Войны - мир по-прежнему тесен... Я тоже была художницей.
- Постой-постой... Ты... - я чувствовал, как все поплыло у меня перед глазами. И воскликнул: - Ты - Кэтрин Уильямс? Это твоя картина висела у Президента Америки?
- Ну да, - она вдруг опустила голову и тихо засмеялась чему-то. А я постарался обуздать жар в своем сердце. В конце концов, не она же виновата, что Президент проглядел мое послание, потому что глазел на ее картину!..
Я до сих пор с гордостью говорю, что делал свою работу хорошо. Даже убийство я невольно превратил в искусство. Мои жертвы настигала смерть более милосердная и быстрая, чем от Болезней и Голода, из чьих зубов я нередко спасал их. Я твердил себе, что мне неважно, сколь много или сколь мало они мучились, но крохотная искорка в моем сердце не хотела гаснуть. Сколько бы тысячелетий Старик-Зима ни пытался меня переубедить, сколько бы ни говорил, что яркие краски и пышные узоры - удел Лета, я упрямо держался собственного мнения о своем предназначении и своей работе. Расписывать осень яркими красками для меня было куда важнее, чем губить заплутавших в буране глупцов или бездомных бедолаг. Часто в канун Рождества тепло моего сердца от еле заметного марева разгоралось до огня свечи, когда я разрисовывал узорами окна полных народом храмов и согретых каминами гостиных.
Все вы, должно быть, помните ту осень - самую красивую, самую роскошную из всех, созданных мною. Все художники Земли отчаянно старались создать на своих полотнах бледное подобие моих красок - горящих как пламя, как кровь, как докрасна раскаленное железо! Но это знамение огня было лишь прелюдией к моей зимней работе.
Я трудился день и ночь, оставлял свои пророчества на стеклах окон и витрин. Высказываться слишком ясно нельзя было: вдруг Некто поймет, что я делаю - тогда мне несдобровать... Среди узоров инея, на каждом оконном стекле я прятал очертания набухшего, как чудовищный гриб, облака. Я рисовал эти мерзкие грибы и в оконцах лачуг, и на витринах супермаркетов. И, конечно же, мои послания появились там, где надо... Только "где надо" почему-то всегда смотрели не туда.
- Да погляди же, чтоб тебя! - вопил я в окно Белого Дома, где с озабоченным видом расхаживал по своему кабинету Президент. Но ушам людей не дано слышать наши голоса, и он отошел от окна, так и не заметив моего шедевра. Отошел - и уставился на висевшую над камином картину некой Кэтрин Уильямс, художницы из людей, на которой - здрасьте вам! - пламенели краски созданной мною осени! Я не мог больше этого вынести, я с такой силой навалился на стекло, что с громким треском оно лопнуло... И тут же отпрянул, слишком поздно поняв, какая боль в груди...
Я ничком лежал в снегу, сожалея, что я не смертный и не могу лишиться чувств. Жар в груди унялся, осталось лишь умирающее тепло. И я решил дать сердцу застыть до такой ледяной твердости, чтобы и самому Солнцу не под силу было меня растопить. Я перестал малевать эти самые грибы, я наконец-то был свободен: в конце-концов, если бы даже люди поняли предостережение, что они, в сущности, могут?..
Так я блаженствовал в глубокой заморозке, я наслаждался бездельем, пока передо мной не предстал мой добрый враг - Николай - бывший смертный. Я не оговорился, хоть он и наш враг, но он действительно мог быть добр к каждому, и ко мне тоже. Он часто приходил посмотреть на мою работу, и нахваливал меня - в шутку, конечно (в сущности, что может быть у нас общего?). Однако теперь он не шутил, его глаза не смеялись.
- Джек, ты сдался. Я знаю тысячи простых смертных, которые не сдались бы так легко. А ты... Джек Фрост, художник, где твоя гордость? Я не отреагировал - важнее было остудить сердце до полного бесчувствия.
- Эта неудача у меня не первая, Николай. То же самое было в Лондоне, Москве, Париже. Моя работа ничего не меняет.
- Не меняет? - Николай смотрел мне прямо в глаза. - Даже когда Рождества и Святок в помине не было - уже тогда твои рисунки озаряли и украшали унылую зиму. Даже в ту, глубокую старину твое искусство дарило людям надежду, Джек...
- А еще я нес им смерть, ты это прекрасно знаешь! - отрезал я. - И опять принесу. Люди собираются воевать, и прежде чем осядет пыль сражений, Зима воцарится на месяцы, а может, и на годы. И вот тогда я буду косить выживших наравне со стервятниками и шакалами!
Я повернулся, чтобы уйти.
- Ты признаешь, что ты больше не художник?.. - донесся до меня вопрос Николая.
Не отвечая, я побрел прочь по глубокому снегу. Не позволять же ему увидеть, как я плачу...
- Ты... ты не человек, да? Художница по-прежнему была рядом. Я покачал головой. Выдохнул, и мое ледяное дыхание ожгло ее запрокинутое лицо. Она дернулась, но я удержал ее в кольце ледяных рук.
- От Фроста не убежишь, Кэтрин Уильямс.
Она дрожала. Я отпустил одну руку, чтобы провести холодным пальцем по ее носу и щекам.
- Ты меня убьешь! - прошептала она, и слезы побежали из ее темных, блестящих глаз. Я отдернул руку от жара слез, но упустил разгоравшееся в груди пламя. Прежде я никогда не смотрел в глаза своей жертве, и жертва не смотрела в мои, когда я делал свою работу. И я честно пытался смотреть - было бы трусостью отвести взгляд, когда она, совершенно не по своей воле, увидела собственную смерть.
Вдруг Кэтрин сорвала с головы вязаную шапку, скинула перчатки, рванула вниз молнию на куртке, высвободилась из толстых рукавов, как змея из старой кожи...
- Давай покончим с этим поскорей! - сказала она. - Ну, убей меня. До того как прийти сюда, я постучалась на ферму, но оттуда меня прогнали. Знаешь, почему? Потому что я была художницей! Если б врачом или медсестрой, может, приютили бы, а художницу что даром кормить! - Она горько рассмеялась. - Я больше не напишу ни одной картины, а если и написала бы, кому на нее смотреть? Так что делай свое дело!
Искра в сердце превратилась в гневный огонь.
- Думаешь, я по своей воле убиваю? Я тоже был художником! Чем лучше человечество училось защищаться от Зимы, тем свободнее я мог заниматься творчеством. Я делал все что мог, чтобы предостеречь вас, но они все равно затеяли Войну!
И тихо промолвил: - Постараюсь как можно быстрее.
Моя рука легла на ее обнаженное плечо, и я почувствовал, как женщина дрожит.
- Закрой глаза. Я вообще не понимаю, как ты можешь меня видеть, но вовсе не обязательно смотреть, как я буду забирать жизнь у тебя из тела.
Но она смотрела.
- Да закрой же глаза!!!
Она покачала головой и серьезно сказала:
- Почему? Художнику дано видеть то, что не видят другие. Самая для меня подходящая смерть...
Рука невольно отдернулась. Противостояние огня и холода грозило растопить ледяную броню так же мгновенно, как я сокрушил замок на церковной двери. Я сглотнул, силясь владеть собой.
- Мне искренне жаль, Кэтрин Уильямс. Пусть ты попадешь туда, куда все смертные художники хотят попасть после смерти.
С нова поднял я руки, как вдруг женщину с головы до ног укутало огромное багряное покрывало. От ткани исходили волны тепла, и я в отпрянул, едва перенося этот жар.
нова поднял я руки, как вдруг женщину с головы до ног укутало огромное багряное покрывало. От ткани исходили волны тепла, и я в отпрянул, едва перенося этот жар.
- Привет еще раз, мой друг, - поздоровался Николай, заботливо поправляя на Кэтрин багряный плащ. - А ты, детка, не раскрывайся, холодно. У меня тут дело к нашему приятелю Фросту.
- Николай! Что ты еще задумал?
Он пронзительно глянул на меня.
- Ты вторгаешься на мою территорию, Джек Фрост. Да еще в канун Рождества!
- Брось, Николай. Я не вампир и не оборотень. Чтобы прогнать холод, одного креста мало.
Николай рассмеялся - совсем как раньше, до Войны.
- Да, Фрост, подловил ты меня. Конечно, твое полное право в зимнюю стужу находиться в нетопленой церкви. Но я не позволю тебе убить женщину, которая ищет убежища в таком месте. И между прочим, - добавил он, - это я сделал так, чтоб она тебя видела и слышала.
Я стоял, сжимая кулаки. До сих пор никто из наших не выходил в открытый бой против Николая. Не пора ли попробовать?
- Джек, - озорно подмигнул Николай, - кстати... А не распишешь ли ты здесь окна, а? Для меня? Ну, чтобы хоть на Рождество было хоть чуточку больше похоже...
Я посмотрел на голые стекла. Затем вперил стылый взгляд в Николая.
- Ты не впервые пускаешься на эту хитрость. Отвлечь меня рисованием, чтобы жертва пережила ночь...
Он только пожал плечами. Мы долго смотрели друг на друга, и, наконец, молчание нарушила Кэтрин.
- Джек, а в самом деле, попробуй. Так хочется увидеть, как работает бессмертный художник.
Николай скорбно покачал головой.
- Боюсь, Кэтрин, никакой он больше не художник. Он только был им. Когда-то.
Иногда нужна всего одна лишь, последняя снежинка, чтобы началась лавина. Скорлупа вокруг сердца треснула, как хрустальный бокал в сильной руке. Я бросился к левому окну фасада церкви, морозом дохнул на стекло, бегло грунтуя свой "холст". Затем принялся выводить по белому фону узор из искристых перьев. "Что-нибудь рождественское"... Язва же этот Николай!
Сердце колотилось, как кузнечный молот, пальцы плясали по стеклу, как паутинки. И вот в окне уже стоит длиннобородый пророк со свитком в руках. Я занялся вторым окном, преодолевая боль в груди. Нарисовал Благовещение, Пресвятую Деву, говорящую архангелу: "Да будет со мною так, как Ты сказал", - с той же твердостью, что и предавшаяся мне, своему убийце, Кэтрин Уильямс. Третье окно заполонил сонм ангелов, трубящих смертельную для Зимы весть.
Я пересек неф, не помня уже ни стоящего в углу Николая, ни закутанной в плащ женщины у его ног. Еще три окна ждали меня, и я не смел останавливаться, дабы не поддаться жгучей боли в груди. Я сорвал с себя куртку, но даже зимний воздух уже не помогал мне. Еще окно: толпа пастухов, благоговейно взирающих на ангельский сонм напротив.
Еще окно - теперь это было само Рождество. Когда я его закончил, то я - я, Джек Фрост, - вспотел! Сердце мое разрывалось, мне было больно, очень, очень больно.
Оставалось еще одно окно...
- Джек, - тронул меня за плечо Николай. - Друг мой, ты уже и так сверх всякой меры доказал...
Я сбросил его руку и посмотрел на пустое стекло. Тут рисунок должен быть самый простой. Про себя я думал, что надо бы попросить, чтобы принесли мне снега, чтобы боль унять чуточку... Но вдруг стало страшно упустить мысль. Я сделал вдох и прижал ладони к стеклу.
Дрожащими пальцами нарисовал в нижней части окна волхвов с поднятыми к небосводу взорами. Вскарабкался на подоконник, изобразил вверху стекла ослепительно-яркую звезду, что зажглась на небе в ту ночь. Один за другим провел от нее сверкающие инеем лучи, чтобы они освещали изумленные лица. Потом, уцепившись за раму, припал к окну, балансируя на подоконнике. В моих глазах сияла звезда; грудь разрывалась от мощного, как рождение нового светила, сполоха света. По моему лбу и плечам струился прозрачный, как вешний ручей, пот. В венах вместо льда свободно лился теплый ток, обдавая всего меня жаром. И лишь когда огненные струи дошли до рук, я пошевелился.
Ладони будто бы пронзали раскаленные добела гвозди. Я отпустил раму, в ужасе глядя на свои руки.
- Нет! Нет! Только не руки! - охнул я и навалился на окно.
В голове, заглушая звон разбитого стекла, стучали раскаленные молотки. Я рухнул в сугроб среди града осколков с кусками нарисованной мною же звезды. Запустил пальцы глубоко в снег, зачерпнул полные пригоршни холодной белой пыли, не обращая внимания на порезы, из которых, плавя снег, сочилась черная влага.
голове, заглушая звон разбитого стекла, стучали раскаленные молотки. Я рухнул в сугроб среди града осколков с кусками нарисованной мною же звезды. Запустил пальцы глубоко в снег, зачерпнул полные пригоршни холодной белой пыли, не обращая внимания на порезы, из которых, плавя снег, сочилась черная влага.
Двери храма хлопнули, ко мне бежали оттуда. Я приподнялся и кое-как смог сесть. Надо мной склонился Николай. Женщина, снова тепло одетая, стояла рядом с ним. Я судорожно вдохнул холодный воздух.
- Джек, - вымолвила художница, - твои картины...
И заплакала.
Я рисовал инеем задолго до того, как ее предки начали рисовать углем на стенах пещер. Я не нуждался в ее лести! Однако же сердце мое снова полыхнуло оттого, что Кэтрин расстроила гибель моей картины.
Я посмотрел на Кэтрин. Удивительно - прямо над ее головой сияла звезда. Мое бессмертное тело уже врачевало себя само: раны быстро затягивались. Куда бы я ни обратил взгляд - на Николая, на женщину, на крест на куполе церкви, - эта звезда сияла там, подмигивая мне, мерцая. И тогда я сделал то, чего не делал с тех самых пор, как стал провозвестником судьбы.
Я рассмеялся.
Рисунки Юлии Кузенковой
Протоиерей Максим Козлов, настоятель домового храма мученицы Татианы при МГУ им. М. В. Ломоносова:
С большой внутренней радостью прочитал я рассказ совершенно неизвестной мне прежде канадской писательницы Донны Фарли "Последнее окно". Мне радостно, что в западной литературе, как выясняется, вовсе не угасла традиция святочного рассказа, и что вообще есть в Канаде англоязычные православные писатели. Согласитесь, ожидать такого можно было с большим трудом!
По форме и по жанру то, что журнал предлагает вашему вниманию, - именно святочный рассказ. Такой, каких немало знали и знают русская, французская и английская словесности. Здесь есть и частый гость святочного рассказа - святитель Николай, да и сами события его приурочены к рождественскому времени. Мы видим чудо Божие, радостью и теплом, даже в буквальном смысле, согревающее сердца персонажей и читателей рассказа. Наконец, есть непременная благополучная, а в "Последнем окне" и в христианском понимании благополучная, концовка.
Меня никоим образом не смущало то, что в рубрику учебника по догматическому богословию, в категорию обитателей невидимого мира, Джек Фрост совсем не вписывается. Все же мы с вами читаем не Дионисия Ареопагита, а детскую сказку! А в сказке имеют право появляться те, кого не только в видимом, но и в невидимом мире мы никогда не встретим. Главное, чтобы это появление не было связано, как в иных современных дурных книжках, с внутренней притягательностью всякого рода магии, колдовства, нездоровой мистики. Но ведь здесь этого нет! А есть вечные темы нашей веры: о любви и прощении, о воздаянии и о милости, которая выше всякого справедливого суда. "Последнее окно" говорит нам о силе молитв святых и о том, Кого мы любим больше всех - Господе нашем Иисусе Христе.
Перевод с английского Аллы Виноградовой
Лесков Н.С. Христос в гостях у мужика (отрывок)
(Рождественский рассказ. Посвящается христианским детям)
Настоящий рассказ о том, как сам Христос приходил на Рождество к мужику в гости и чему его выучил, я сам слышал от одного старого сибиряка, которому это событие было близко известно. Что он мне рассказывал, то я и вам передам его же словами.
Наше место поселенное, но хорошее, торговое место. Отец мой в эти места прибыл за крепостное время в России, а я тут и родился. Имели достатки по своему положению довольные и теперь не бедствуем. Веру держим простую, русскую1. Отец был начитан и меня к чтению приохотил. Который человек науку любил, тот был мне первый друг, и я готов был за него в огонь и в воду. И вот послал мне один раз Господь в утешение приятеля Тимофея Осиповича, про которого я и хочу вам рассказать, как с ним чудо было. Тимофей Осипов прибыл к нам в молодых годах. Мне было тогда восемнадцать лет, а ему, может быть, с чем-нибудь за двадцать. Поведения Тимоша был самого непостыдного. За что он прибыл по суду за поселение - об этом по нашему положению, щадя человека, не расспрашивают, но слышно было, что его дядя обидел. Опекуном был в его сиротство да и растратил, или взял, почти все наследство. А Тимофей Осипов за то время был по молодым годам нетерпеливый, вышла у них с дядей ссора, и ударил он дядю оружием. По милосердию Создателя, грех сего безумия не до конца совершился - Тимофей только ранил дядю в руку насквозь. По молодости Тимофея большого наказания ему не было, как из первогильдийных купцов сослан он к нам на поселение. Именье Тимошино хотя девять частей было разграблено, но, однако, и с десятою частью еще жить было можно. Он у нас построил дом и стал жить, но в душе у него обида кипела, и долго он от всех сторонился. Сидел всегда дома, и батрак да батрачка только его и видели, а дома он все книги читал, и самые божественные. Наконец мы с ним познакомились, именно из-за книг, и я начал к нему ходить, а он меня принимал с охотою. Пришли мы друг другу по сердцу.
<...> И он открыл мне, что дядя смертно огорчил его отца, свел горем в могилу его мать, оклеветал его самого и при старости своих лет улестил и угрозами понудил одних людей выдать за него, за старика, молодую девушку, которую Тимоша с детства любил и всегда себе в жену взять располагал.
− Разве, - говорит, - все это можно простить? Я его в жизнь не прощу.
− Ну да, - отвечаю, - обида твоя велика - это правда, а что Святое Писание тебя не пользует, и то не ложь. А он мне опять напоминает, что я слабже его в Писании, и начинает доводить, как в Ветхом Завете святые мужи сами беззаконников не щадили2 и даже своими руками заклали. Хотел он, бедняк, этим совесть свою передо мной оправдать. А я по простоте своей ответил ему просто.
− Тимоша! - говорю, - ты умник, ты начитан и все знаешь, и я против тебя по Писанию отвечать не могу. Я что и читал, откроюсь тебе, не все разумею, поелику я человек грешный и ум имею тесный. Однако скажу тебе: в Ветхом Завете все ветхое и как-то рябит в уме двойственно, а в Новом - яснее стоит. Там надо всем блистает: «Возлюби да прости»3, и это всего дороже, как злат ключ, что всякий замок открывает. А в чем же прощать, неужели не в самой большой вине? Он молчит. Тогда я положил в уме: Господи! Не угодно ли воле Твоей через меня сказать слово душе брата моего? И говорю, как Христа били, обижали, заплевали и так учредили, что одному Ему нигде места не было, а Он всех простил.
− Последуй, - говорю, - лучше сему, а не отомстительному обычаю. А он пошел приводить большие толкования, как кто писал, что иное простить, яко бы все равно, что зло приумножить. Я на это упровергать не мог, но сказал только:
− Я-то опасаюсь, что «многие книги безумным тя творят»4. − Ты, - говорю, - ополчись на себя. Пока ты зло помнишь - зло живо, - а пусть оно умрет, тогда и душа твоя в покое жить станет. Тимофей выслушал меня и сильно сжал мне руку, но обширно говорить не стал, а сказал кратко:
− Не могу, оставь, мне тяжело. Я оставил. Знал, что у него болит, и молчал, а время шло, и убыло еще шесть лет, и во все это время я за ним наблюдал и видел, что все он страдает, что если пустить его на всю свободу да если он достигнет где-нибудь своего дядю, - забудет он все Писание и поработает сатане мстительному. Но в сердце своем я был покоен, потому что виделся мне тут перст Божий. Стал уже он помалу показываться, ну так верно и всю руку увидим. Спасет Господь моего друга от греха гнева. Но произошло это весьма удивительно.
Теперь Тимофей был у нас в ссылке шестнадцатый год, и прошло пятнадцать лет, как он женат. Было ему, стало быть, лет тридцать семь или восемь, и имел он трех детей и жил прекрасно. Любил он особенно цветы розаны и имел их у себя много и на окнах, и в палисаднике. Все место перед домом было розанами покрыто, и через их запах был весь дом в благовонии. И была у Тимофея такая привычка, что как близится солнце к закату, он непременно выходил в свой садик и сам охорашивал свои розаны и читал на скамеечке книгу. Больше, сколь мне известно, и то было, что он тут иногда молился. Таким точно порядком пришел он раз сюда и взял с собой Евангелие. Пооглядел розаны, а потом присел, раскрыл книгу и стал читать. Читает, как Христос пришел в гости к фарисею5 и Ему не подали даже воды, чтобы омыть ноги. И стало Тимофею нестерпимо обидно за Господа и жаль Его. Так жаль, что он заплакал о том, как этот богатый хозяин обошелся со святым гостем. Вот тут в эту самую минуту и случилося чуду начало, о котором Тимоша мне так говорил.
− Гляжу, - говорит, - вокруг себя и думаю: какое у меня всего изобилие и довольство, а Господь мой ходил в такой бедности и унижении... И наполнились все глаза мои слезами, и никак их сморгнуть не могу; и все вокруг меня стало розовое, даже самые мои слезы. Так вроде забытья или обморока, и воскликнул я: «Господи! Если бы Ты ко мне пришел - я бы Тебе и себя самого отдал». А ему вдруг в ответ откуда-то, как в ветерке розовом, дохнуло:
− Приду!
Тимофей с трепетом прибежал ко мне и спрашивает:
− Как ты об этом понимаешь: неужели Господь ко мне может в гости прийти?
Я отвечаю:
− Это, брат, сверх моего понимания.Как об этом в Писании?
А Тимофей говорит:
− В Писании есть: «Все Тот же Христос ныне и во веки», - я не смею не верить.
− Что же, - говорю, - и верь.
− Я велю что день на столе Ему прибор ставить.
Тимофей велел жене с другого же дня ставить за столом лишнее место. Как садятся они за стол пять человек - он, да жена, да трое ребятишек, - всегда у них шестое место в конце стола почетное, и перед ним большое кресло. Жена любопытствовала: что это, к чему и для кого? Но Тимофей ей не все открывал. Жене и другим он говорил только, что так надо по его душевному обещанию «для первого гостя», а настоящего, кроме его да меня, никто не знал. Ждал Тимофей Спасителя на другой день после слова в розовом садике, ждал в третий день, потом в первое воскресенье - но ожидания эти были без исполнения. Долгодневны и еще были его ожидания: на всякий праздник Тимофей все ждал Христа в гости и истомился тревогою, но не ослабевал в уповании, что Господь Свое обещание сдержит - придет. Открыл мне Тимофей так, что «всякий день, - говорит, - я молю: "Ей, гряди, Господи!" - и ожидаю, но не слышу желанного ответа: "Ей, гряду скоро!"»7 Разум мой недоумевал, что отвечать Тимофею, и часто я думал, что друг мой загордел и теперь за то путается в напрасном обольщении. Однако Божие смотрение о том было иначе.
* * *
Наступило Христово Рождество. Стояла лютая зима. Тимофей приходит ко мне на сочельник и говорит:
− Брат любезный, завтра я дождусь Господа. Я к этим речам давно был безответен и тут только спросил:
− Какое же ты имеешь в этом уверение?
− Ныне, - отвечает, - только что я помолил: «Ей, гряди, Господи!» - как вся моя душа во мне всколыхнулася и в ней словно трубой вострубило: «Ей, гряду скоро!» Завтра Его святое Рождество - и не в сей ли день Он пожалует. Приди ко мне со всеми родными, а то душа моя страхом трепещет.
Я говорю:
− Тимоша! Знаешь ты, что я ни о чем этом судить не умею и Господа видеть не ожидаю, потому что я муж грешник, но ты нам свой человек - мы к тебе придем. А ты если уповательно ждешь столь великого гостя, зови не своих друзей, а сделай Ему угодное товарищество.
− Понимаю, - отвечает, - сейчас пошлю услужающих у меня и сына моего обойти села и звать всех ссыльных - кто в нужде и бедствии. Явит Господь дивную милость - пожалует, так встретит все по заповеди. Мне и это слово его тоже не нравилось.
− Тимофей, - говорю, - кто может учредить все по заповеди? Одно не разумеешь, другое забудешь, а третье исполнить не можешь. Однако, если все это столь сильно «трубит» в душе твоей, то да будет так, как тебе открывается. Если Господь придет, Он все, чего недостанет, пополнит, и если ты кого Ему надо забудешь, Он недостающего и сам приведет. Пришли мы в Рождество к Тимофею всей семьей, попозже, как ходят на званый стол. Так он звал, чтобы всех дождаться. Застали большие хоромы его полны людей, всякого нашенского, сибирского, засыльного роду. Мужчины и женщины и детское поколение, всякого звания и из разных мест, - и российские, и поляки, и чухонской веры. Тимофей собрал всех бедных поселенцев, которые еще с прибытия не оправились на своем хозяйстве. Столы большие, крыты скатертями и всем чем надобно. Батрачки бегают, квасы и чаши с пирогами расставляют. А на дворе уже смеркалося, да и ждать больше было некого: все послы домой возвратилися, и гостям неоткуда больше быть, потому что на дворе поднялась метель и вьюга, как светопреставление. Одного только гостя нет и нет, - который всех дороже. Надо было уже и огни зажигать да и за стол садиться, потому что совсем темно понадвинуло и все мы ждем в сумраке при одном малом свете от лампад перед иконами. Тимофей ходил и сидел и был, видно, в тяжкой тревоге. Все упование его поколебалось: теперь уже видное дело, что не бывать «великому гостю». Прошла еще минута, и Тимофей вздохнул, взглянул на меня с унылостью и говорит:
− Ну, брат милый, - вижу я, что либо угодно Господу оставить меня в посмеянии, либо прав ты: не умел я собрать всех кого надо, чтоб Его встретить. Будь о всем воля Божия: помолимся и сядем за стол.
Я отвечаю:
− Читай молитву.
Он стал перед иконою и вслух зачитал: «Отче наш, иже еси на небеси», а потом «Христос рождается, славите, Христос с небес, срящите8, Христос на земли...» И только это слово вымолвил, как внезапно что-то так страшно ударило со двора в стену, что даже все зашаталось, а потом сразу же прошел шум по широким сеням, и вдруг двери в горницу сами вскрылися настежь.
* * *
Все люди, сколько тут было, в неописанном страхе шарахнулись в один угол, а многие упали, и только кои всех смелее на двери смотрели. А в двери на пороге стоял старый-престарый старик, весь в худом рубище, дрожит и, чтобы не упасть, обеими руками за притолки держится; а из-за него из сеней, где темно было, - неописанный розовый свет светит, и через плечо старика вперед в хоромину выходит белая как из снега рука, и в ней длинная глиняная плошка с огнем, такая, как на беседе Никодима пишется... Ветер с вьюгой с надворья рвет, а огня не колышет... И светит этот огонь старику в лицо и на руку, а на руке в глаза бросается заросший старый шрам, весь побелел от стужи. Тимофей как увидал это - вскричал:
− Господи! Вижду и приму его во имя Твое, а Ты Сам не входи ко мне: я человек злой и грешный. - Да с этим и поклонился лицом до земли. А с ним и я упал на землю от радости, что его настоящей покорностью тронуло, и воскликнул всем вслух:
− Вонмем: Христос среди нас!
А все отвечали:
− Аминь, - то есть «истинно».
Тут внесли огонь; я и Тимофей восклонились от полу, а белой руки уже не видать - только один старик остался. Тимофей встал, взял его за обе руки и посадил на первое место. А кто он был, этот старик, может быть, вы и сами догадаетесь: это был враг Тимофея - дядя, который всего его разорил. В кратких словах он сказал, что все у него пошло прахом: и семьи, и богатства он лишился, и ходил давно, чтобы отыскать племянника и просить у него прощения. И жаждал он этого, и боялся Тимофеева гнева, а в эту метель сбился с пути и, замерзая, чаял смерти единой.
− Но вдруг, - говорит, - кто-то неведомый осиял меня и сказал: «Иди, согрейся на Моем месте и поешь из Моей чаши», взял меня за обе руки, и я стал здесь, сам не знаю отколе. А Тимофей при всех отвечал:
− Я, дядя, твоего Провожатого ведаю: это Господь, который сказал: «Аще алчет враг твой - ухлеби его, аще жаждет - напой его»10. Сядь у меня на первом месте - ешь и пей во славу Его и будь в дому моем во всей воле до конца жизни. С той поры старик так и остался у Тимофея и, умирая, благословил его, а Тимофей стал навсегда мирен в сердце своем. Так научен был мужик устроить в сердце своем ясли для рожденного на земле Христа. И всякое сердце тоже может быть такими яслями, если оно исполнит заповедь: «Любите врагов ваших, благотворите обидевшим вас»11. Христос придет в сердце его, как в убранную горницу, и сотворит Себе там обитель. Ей, гряди, Господи; ей, гряди скоро!
1881
Примечания и сноски в рассказе сделаны самим автором.
1 То есть герой принадлежит к староверам.
2 См.: Евангелие. Деяния Святых Апостолов, 2:23.
3 См.: Евангелие от Матфея, 5:44.
4 Цитата из Библии в древнерусском переводе (Екклезиаст, 12:12).
5 См.: Евангелие от Луки, 7:36,44.
6 Евангелие. Послание к Евреям Святого Апостола Павла.
7 Евангелие. Откровение Святого Иоанна Богослова, 22:20.
8 Срящите - встречайте.
9 Вонмем - слушайте (буквально: восслушаем).
10 Евангелие. Послание к Римлянам Святого Апостола Павла, 12:20.
11 Из заповедей Христа, обращенных к апостолам и народу Иудеи (Евангелие от Матфея, 5:44 и от Луки, 6:27).
Н.Д. Телешов. Елка Митрича.

Был канун Рождества…
Сторож переселенческого барака, отставной солдат, с серою, как мышиная шерсть, бородою, по имени Семен Дмитриевич, или попросту Митрич, подошел к жене и весело проговорил, попыхивая трубочкой:
- Ну баба, какую я штуку надумал!
Аграфене было некогда; с засученными рукавами и расстегнутым воротом она хлопотала в кухне, готовясь к празднику.
- Слышь, баба, - повторил Митрич. - Говорю, какую я штуку надумал!
- Чем штуки то выдумывать, взял бы метелку да вон паутину бы снял! - ответила жена, указывая на углы. - Вишь, пауков развели. Пошел бы да смел!
Митрич, не переставая улыбаться, поглядел на потолок, куда указывала Аграфена, и весело сказал:
- Паутина не уйдет; смету… А ты, слышь ка, баба, что я надумал то!
- Ну?
- Вот те и ну! Ты слушай.
Митрич пустил из трубки клуб дыма и, погладив бороду, присел на лавку.
- Я говорю, баба, вот что, - начал он бойко, но сейчас же запнулся. - Я говорю, праздник подходит… И для всех он праздник, все ему радуются… Правильно, баба?
- Ну?
- Ну вот я и говорю, все, мол, радуются, у всякого есть свое: у кого обновка к празднику, у кого пиры пойдут… У тебя, к примеру, комната будет чистая, у меня тоже свое удовольствие: винца куплю себе да колбаски!.. У всякого свое удовольствие будет, - правильно?
- Так что ж? - равнодушно сказала старуха.
- А то, - вздохнул снова Митрич, - что всем будет праздник как праздник, а вот, говорю, ребятишкам то, выходит, и нет настоящего праздника… Поняла?.. Оно праздник то есть, а удовольствия никакого… Гляжу я на них, да и думаю; эх, думаю, неправильно!.. Известно, сироты… ни матери, ни отца, ни родных… Думаю себе, баба: нескладно!.. Почему такое - всякому человеку радость, а сироте - ничего!
- Тебя, видно, не переслушаешь, - махнула рукой Аграфена и принялась мыть скамейки.
Но Митрич не умолкал.
- Надумал я, баба, вот что, - говорил он, улыбаясь, - надо, баба, ребятишек потешить!.. Потому видал я много народу, и наших и всяких людей видал… И видал, как они к празднику детей забавляют. Принесут, это, елку, уберут ее свечками да гостинцами, а ребятки то ихние просто даже скачут от радости!.. Думаю себе, баба: лес у нас близко… срублю себе елочку да такую потеху ребятишкам устрою, что весь век будут Митрича поминать! Вот, баба, какой умысел, а?
Митрич весело подмигнул и чмокнул губами.
- Каков я то?
Аграфена молчала. Ей хотелось поскорее прибрать и вычистить комнату. Она торопилась, и Митрич с своим разговором ей только мешал.
- Нет, каков, баба, умысел, а?
- А ну те с твоим умыслом! - крикнула она на мужа. - Пусти с лавки то, чего засел! Пусти, некогда с тобой сказки рассказывать!
Митрич встал, потому что Аграфена, окунув в ведро мочалку, перенесла ее на скамью прямо к тому месту, где сидел муж, и начала тереть. На пол полились струи грязной воды, и Митрич смекнул, что пришел невпопад.
- Ладно, баба! - проговорил он загадочно. - Вот устрою потеху, так небось сама скажешь спасибо!.. Говорю, сделаю - и сделаю! Весь век поминать будут Митрича ребятишки!..
- Видно, делать то тебе нечего.
- Нет, баба! Есть что делать: а сказано, устрою - и устрою! Даром что сироты, а Митрича всю жизнь не забудут!
И, сунув в карман потухшую трубку, Митрич вышел во двор.
По двору, там и сям, были разбросаны деревянные домики, занесенные снегом, забитые досками; за домиками раскидывалось широкое снежное поле, а дальше виднелись верхушки городской заставы… С ранней весны и до глубокой осени через город проходили переселенцы. Их было так много, и так они были бедны, что добрые люди выстроили им эти домики, которые сторожил Митрич. Домики бывали все переполнены, а переселенцы между тем все приходили и приходили. Деваться им было некуда, и вот они раскидывали в поле шалаши, куда и прятались с семьей и детьми в холод и непогоду. Иные жили здесь неделю, две, а иные больше месяца, дожидаясь очереди на пароходе. В половине лета здесь набиралось народа такое множество, что все поле было покрыто шалашами. Но к осени поле мало помалу пустело, дома освобождались и тоже пустели, а к зиме не оставалось уже никого, кроме Митрича и Аграфены да еще нескольких детей, неизвестно чьих.
- Вот уж непорядок, так непорядок! - рассуждал Митрич, пожимая плечами. - Куда теперь с этим народом деваться? Кто они такие? Откуда явились?
Вздыхая, он подходил к ребенку, одиноко стоявшему у ворот.
- Ты чей такой?
Ребенок, худой и бледный, глядел на него робкими глазами и молчал.
- Как тебя звать?
- Фомка.
- Откуда? Как деревню твою называют?
Ребенок не знал.
- Ну, отца как зовут?
- Тятька.
- Знаю, что тятька… А имя то у него есть? Ну, к примеру, Петров или Сидоров, или, там, Голубев, Касаткин? Как звать то его?
- Тятька.
Привычный к таким ответам, Митрич вздыхал и, махнув рукою, более не допытывался.
- Родителей то, знать, потерял, дурачок? - говорил он, гладя ребенка по голове. - А ты кто такой? - обращался он к другому ребенку. - Где твой отец?
- Помер.
- Помер? Ну, вечная ему память! А мать куда девалась?
- Померла.
- Тоже померла?
Митрич разводил руками и, собирая таких сирот, отводил их к переселенческому чиновнику. Тот тоже допрашивал и тоже пожимал плечами.
У одних родители умерли, у других ушли неизвестно куда, и вот таких детей на эту зиму набралось у Митрича восемь человек, один другого меньше. Куда их девать? Кто они? Откуда пришли? Никто этого не знал. «Божьи дети!» - называл их Митрич.
Им отвели один из домов, самый маленький. Там они жили, и там затеял Митрич устроить им ради праздника елку, какую он видывал у богатых людей.
«Сказано, сделаю - и сделаю! - думал он, идя по двору. - Пускай сиротки порадуются! Такую потеху сочиню, что весь век Митрича не забудут!»
Прежде всего он отправился к церковному старосте.
- Так и так, Никита Назарыч, я к вам с усерднейшей просьбой. Не откажите доброму делу.
- Что такое?
- Прикажите выдать горсточку огарков… самых махоньких… Потому как сироты… ни отца, ни матери… Я, стало быть, сторож переселенский… Восемь сироток осталось… Так вот, Никита Назарыч, одолжите горсточку.
- На что тебе огарки?
- Удовольствие хочется сделать… Елку зажечь, вроде как у путных людей.
Староста поглядел на Митрича и с укором покачал головой.
- Ты что, старик, из ума, что ли, выжил? - проговорил он, продолжая качать головой. - Ах, старина, старина! Свечи то небось перед иконами горели, а тебе их на глупости дать?
- Ведь огарочки, Никита Назарыч…
- Ступай, ступай! - махнул рукою староста. - И как тебе в голову такая дурь пришла, удивляюсь!
Митрич как подошел с улыбкой, так с улыбкой же и отошел, но только ему было очень обидно. Было еще и неловко перед церковным сторожем, свидетелем неудачи, таким же, как и он, старым солдатом, который теперь глядел на него с усмешкой и, казалось, думал: «Что? Наткнулся, старый хрен!..» Желая доказать, что он не «на чай» просил и не для себя хлопотал, Митрич подошел к старику и сказал:
- Какой же тут грех, коли я огарок возьму? Сиротам прошу, не себе… Пусть бы порадовались… ни отца, стало быть, ни матери… Прямо сказать: Божьи дети!
В коротких словах Митрич объяснил старику, зачем ему нужны огарки, и опять спросил:
- Какой же тут грех?
- А Никиту Назарыча слышал? - спросил в свою очередь солдат и весело подмигнул глазом. - То то и дело!
Митрич потупил голову и задумался. Но делать было нечего. Он приподнял шапку и, кивнув солдату, проговорил обидчиво:
- Ну, так будьте здоровы. До свиданьица!
- А каких тебе огарков то?
- Да все одно… хошь самых махоньких. Одолжили бы горсточку. Доброе дело сделаете. Ни отца, ни матери… Прямо - ничьи ребятишки!
Через десять минут Митрич шел уже городом с полным карманом огарков, весело улыбаясь и торжествуя. Ему нужно было зайти еще к Павлу Сергеевичу, переселенческому чиновнику, поздравить с праздником, где он рассчитывал отдохнуть, а если угостят, то и выпить стаканчик водки. Но чиновник был занят; не повидав Митрича, он велел сказать ему «спасибо» и выслал полтинник.
«Ну, теперь ладно! - весело думал Митрич. - Теперь пускай говорит баба, что хочет, а уж потеху я сделаю ребятишкам! Теперь, баба, шабаш!»
Вернувшись домой, он ни слова не сказал жене, а только посмеивался молча да придумывал, когда и как все устроить.
«Восемь детей, - рассуждал Митрич, загибая на руках корявые пальцы, - стало быть, восемь конфет…»
Вынув полученную монету, Митрич поглядел на нее и что то сообразил.
- Ладно, баба! - подумал он вслух. - Ты у меня посмотришь! - и, засмеявшись, пошел навестить детей.
Войдя в барак, Митрич огляделся и весело проговорил:
- Ну, публика, здравствуй. С праздником!
В ответ раздались дружные детские голоса, и Митрич, сам не зная чему радуясь, растрогался.
- Ах вы, публика публика!.. - шептал он, утирая глаза и улыбаясь. - Ах вы, публика этакая!
На душе у него было и грустно и радостно. И дети глядели на него тоже не то с радостью, не то с грустью.
Был ясный морозный полдень.
С топором за поясом, в тулупе и шапке, надвинутой по самые брови, возвращался Митрич из леса, таща на плече елку. И елка, и рукавицы, и валенки были запушены снегом, и борода Митрича заиндевела, и усы замерзли, но сам он шел ровным солдатским шагом, махая по солдатски свободной рукой. Ему было весело, хотя он и устал. Утром он ходил в город, чтобы купить для детей конфет, а для себя - водки и колбасы, до которой был страстный охотник, но покупал ее редко и ел только по праздникам.
Не сказываясь жене, Митрич принес елку прямо в сарай и топором заострил конец; потом приладил ее, чтобы стояла, и, когда все было готово, потащил ее к детям.
- Ну, публика, теперь смирно! - говорил он, устанавливая елку. - Вот маленько оттает, тогда помогайте!
Дети глядели и не понимали, что такое делает Митрич, а тот все прилаживал да приговаривал:
- Что? Тесно стало?.. Небось думаешь, публика, что Митрич с ума сошел, а? Зачем, мол, тесноту делает?.. Ну, ну, публика, не сердись! Тесно не будет!..
Когда елка согрелась, в комнате запахло свежестью и смолой. Детские лица, печальные и задумчивые, внезапно повеселели… Еще никто не понимал, что делает старик, но все уже предчувствовали удовольствие, и Митрич весело поглядывал на устремленные на него со всех сторон глаза.
Затем он принес огарки и начал привязывать их нитками.
- Ну ка, ты, кавалер! - обратился он к мальчику, стоя на табуретке. - Давай ка сюда свечку… Вот так! Ты мне подавай, а я буду привязывать.
- И я! И я! - послышались голоса.
- Ну и ты, - согласился Митрич. - Один держи свечки, другой нитки, третий давай одно, четвертый другое… А ты, Марфуша, гляди на нас, и вы все глядите… Вот мы, значит, все и будем при деле. Правильно?
К роме свечей, на елку повесили восемь конфет, зацепив за нижние сучки. Однако, поглядывая на них, Митрич покачал головой и вслух подумал:
роме свечей, на елку повесили восемь конфет, зацепив за нижние сучки. Однако, поглядывая на них, Митрич покачал головой и вслух подумал:
- А ведь… жидко, публика?
Он молча постоял перед елкой, вздохнул и опять сказал:
- Жидко, братцы!
Но, как ни увлекался Митрич своей затеей, однако повесить на елку, кроме восьми конфет, он ничего не мог.
- Гм! - рассуждал он, бродя по двору. - Что бы это придумать?..
Вдруг ему пришла такая мысль, что он даже остановился.
- А что? - сказал он себе. - Правильно будет или нет?..
Закурив трубочку, Митрич опять задался вопросом: правильно или нет?.. Выходило как будто «правильно»…
- Детишки они малые… ничего не смыслят, - рассуждал старик. - Ну, стало быть, будем мы их забавлять… А сами то? Небось и сами захотим позабавиться?.. Да и бабу надо попотчевать!
И не долго думая Митрич решился. Хотя он очень любил колбасу и дорожил всяким кусочком, но желание угостить на славу пересилило все его соображения.
- Ладно!.. Отрежу всякому по кружочку и повешу на ниточке. И хлебца по ломтику отрежу, и тоже на елку. А для себя повешу бутылочку!.. И себе налью, и бабу угощу, и сироткам будет лакомство! Ай да Митрич! - весело воскликнул старик, хлопнув себя обеими руками по бедрам. - Ай да затейник!
Как только стемнело, елку зажгли. Запахло топленым воском, смолою и зеленью. Всегда угрюмые и задумчивые, дети радостно закричали, глядя на огоньки. Глаза их оживились, личики зарумянились, и, когда Митрич велел им плясать вокруг елки, они, схватившись за руки, заскакали и зашумели. Смех, крики и говор оживили в первый раз эту мрачную комнату, где из года в год слышались только жалобы да слезы. Даже Аграфена в удивлении всплескивала руками, а Митрич, ликуя от всего сердца, прихлопывал в ладоши да покрикивал:
- Правильно, публика!.. Правильно!
Затем он взял гармонику и, наигрывая на все лады, подпевал:
Живы были мужики,
Росли грибы рыжики, -
Хорошо, хорошо,
Хорошо ста, хорошо!
- Ну, баба, теперь закусим! - сказал Митрич, кладя гармонику. - Публика, смирно!..
Любуясь елкой, он улыбался и, подперев руками бока, глядел то на кусочки хлеба, висевшие на нитках, то на детей, то на кружки колбасы, и наконец, скомандовал:
- Публика! Подходи в очередь!
Снимая с елки по куску хлеба и колбасы, Митрич оделил всех детей, затем снял бутылку и вместе с Аграфеной выпил по рюмочке.
- Каков, баба, я то? - спрашивал он, указывая на детей. - Погляди, ведь жуют сиротки то! Жуют! Погляди, баба! Радуйся!
Затем опять взял гармонику и, позабыв свою старость, вместе с детьми пустился плясать, наигрывая и подпевая:
Хорошо, хорошо,
Хорошо ста, хорошо!
Дети прыгали, весело визжали и кружились, и Митрич не отставал от них. Душа его переполнилась такою радостью, что он не понимал, бывал ли еще когда нибудь в его жизни этакий праздник.
- Публика! - воскликнул он, наконец. - Свечи догорают… Берите сами себе по конфетке, да и спать пора!
Дети радостно закричали и бросились к елке, а Митрич, умилившись чуть не до слез, шепнул Аграфене:
- Хорошо, баба!.. Прямо можно сказать, правильно!..
Это был единственный светлый праздник в жизни переселенческих «Божьих детей».
Елку Митрича никто из них не забудет!
И.А. Бунин. Волхвы (из «Провансальских пересказов»).
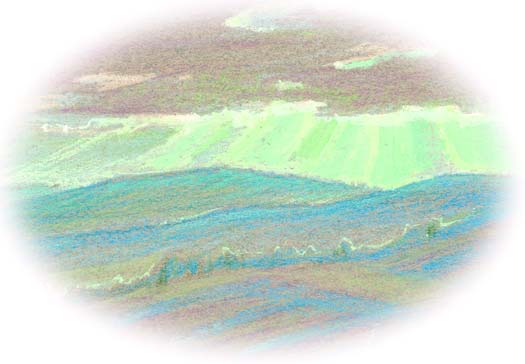
«Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему…»1
Старый провансальский поэт рассказывает, как они, детьми, встречали волхвов на зимней, пустынной Арльской дороге.
Он рассказывает приблизительно так:
- Дети, - говорили нам матери в канун праздника волхвов, - если вы хотите видеть их шествие к Младенцу Иисусу, идите скорей им навстречу: уже вечереет. И несите им какие нибудь дары…
И вот мы бежим, бежим по большой дороге на Арль.
- Дети, куда это вы так спешите?
- Навстречу волхвам!
Мы бежим в наших провансальских колпачках, в маленьких деревянных сабо, с бьющимся от радости сердцем, жадно глядя в даль, в нашем воображении уже полную дивных видений, прижимая к груди наши дары: лепешки (для самих волхвов), сушеные фиги (для их слуг и рабов), пучки сена (для их верблюдов)… Свищет ветер, холодно. Зимнее солнце склоняется к Роне. Ручьи подернуты ледяной коркой, трава по их берегам померзла. Краснеют безлиственные ветки ив, по ним зябко прыгают красношейки… И ни души кругом - разве какая нибудь бедная вдова с вязанкой сухого хвороста на голове или старик в лохмотьях, который шарит под колючим кустом: не попадется ли улитка?
- Куда это вы, дети, так поздно?
- Навстречу волхвам!
И опять вперед, еще резвей и веселей, вприпрыжку, бегом - по бесконечно белеющей дороге, выметенной зимним ветром. Крик, песенки, смех, головки назад - совсем молодые петушки…
А день уже на исходе. Колоколенка Майана давно скрылась за черными остриями кипарисов, кругом только голая, пустая равнина. Мы зорко рыщем по ней глазами: ничего, кроме игольчатых клубков перекати поля, что мчит, крутит ветер по жнивью!
В прочем, порой встречался какой нибудь запоздалый пастух, который, завернувшись в свой истрепанный плащ, гнал домой свою отару.
прочем, порой встречался какой нибудь запоздалый пастух, который, завернувшись в свой истрепанный плащ, гнал домой свою отару.
- Дети, куда это вы в такую пору?
- Навстречу волхвам… Не можете ли сказать, они еще далеко?
- Навстречу волхвам? Ах да, правда, правда, нынче ведь канун их праздника… Они уже близко, вы их вот вот встретите…
И опять вперед!
Но вот и совсем вечер. Солнце, преследуемое зимними облаками, спускается все ниже и ниже. Мы смолкаем, нам уже немножко жутко. Ветер еще резче дует навстречу, мы бежим уже не так резво… И вдруг:
- Вот они!
Из груди у нас всегда вырывался в этот миг безумнорадостный крик - и дивное, царственное великолепие ослепляло наши глаза: блеском, торжеством роскошнейших красок вдруг загорался запад. Там полосами пылал пурпур, золотом и рубином горел солнечный венец, раскидавший в зенит неба свои длинные зубцы лучи…
- Волхвы! Волхвы! Видите венец, корону? Вон мантии, знамена! Вон кони и верблюды!
И мы замирали в изумленье, в восторге. Но не проходило и минуты, как все это великолепие, вся эта слава и роскошь гасли, исчезали, и мы снова, в большом разочаровании, оказывались одни, в сумерках, в поле.
- Где же они, где?
- Прошли за горами!
Стонала совка. Нас охватывал страх. Мы со страхом спешили назад, домой…
- Ну, что же, видели волхвов? - спрашивали нас дома.
- Нет… Они прошли далеко, за горами.
- А вы шли по какой дороге?
- По дороге в Арлатан.
- Ах, дурачки, дурачки! Там волхвов никогда не встретишь, нужно было идти по старой римской дороге… А если бы вы знали, что это за красота, когда они входят в Майан! Трубы, барабаны, слуги, рабы, верблюды… Теперь они уже в церкви, в вертепе, поклоняются Младенцу Иисусу. После ужина бегите скорей в церковь…
И мы наспех ужинали, бежали в церковь. Церковь была уже полна, блистала огнями алтаря, звездой, сиявшей над ним, и ярко озаренным вертепом, где волхвы в своих разноцветных мантиях - красной, синей и желтой - уже поклонялись Младенцу Иисусу, полагали перед Ним свои дары: Гаспар - злато, Мельхиор - ладан, Валтасар - смирну… И, как только мы входили, пробирались вперед между женских юбок, орган, сопровождаемый пением всех молящихся, медленно зачинал, а потом широко и грозно раскатывал свои мощные звуки величавый рождественский гимн:
Нынче, в утренний час,
Встретил я на большой дороге
Караван трех великих волхвов…
И.С. Шмелев. Рождество (из повести «Лето Господне»).

Ты хочешь, милый мальчик, чтобы я рассказал тебе про наше Рождество. Ну, что же… Не поймешь чего - подскажет сердце.
Как будто я такой, как ты. Снежок ты знаешь? Здесь он - редко, выпадет - и стаял. А у нас повалит - свету, бывало, не видать, дня на три! Все завалит. На улицах - сугробы, все бело. На крышах, на заборах, на фонарях - вот сколько снегу! С крыш свисает. Висит - и рухнет мягко, как мука. Ну, за ворот засыплет. Дворники сгребают в кучи, свозят. А не сгребай - увязнешь. Тихо у нас зимой и глухо. Несутся санки, а не слышно. Только в мороз визжат полозья. Зато весной услышишь первые колеса…- вот радость!..
Наше Рождество подходит издалека, тихо. Глубокие снега, морозы крепче. Увидишь, что мороженых свиней подвозят,- скоро и Рождество. Шесть недель постились, ели рыбу. Кто побогаче - белугу, осетрину, судачка, наважку; победней - селедку, сомовину леща… У нас, в России, всякой рыбы много. Зато на Рождество - свинину, все. В мясных, бывало, до потолка навалят, словно бревна, - мороженые свиньи. Окорока обрублены, к засолу. Так и лежат, рядами, - разводы розовые видно, снежком запорошило.
А мороз такой, что воздух мерзнет. Инеем стоит, туманно, дымно. И тянутся обозы - к Рождеству. Обоз? Ну будто поезд… только не вагоны, а сани, по снежку, широкие, из дальних мест. Гусем, друг за дружкой, тянут. Лошади степные, на продажу. А мужики здоровые, тамбовцы, с Волги, из под Самары. Везут свинину, поросят, гусей, индюшек, - «пылкого морозу». Рябчик идет, сибирский, тетерев глухарь… Знаешь - рябчик? Пестренький такой, рябой… - ну, рябчик! С голубя, пожалуй, будет. Называется - дичь, лесная птица. Питается рябиной, клюквой, можжевелкой. А на вкус, брат!.. Здесь редко видишь, а у нас - обозами тянули. Все распродадут, и сани, и лошадей, закупят красного товару, ситцу, - и домой, чугункой. Чугунка? А железная дорога. Выгодней в Москву обозом: свой овес то, и лошади к продаже, своих заводов, с косяков степных.
Перед Рождеством, на Конной площади, в Москве, - там лошадями торговали, - стон стоит. А площадь эта… - как бы тебе сказать?.. - да попросторней будет, чем… знаешь, Эйфелева то башня где? И вся - в санях. Тысячи саней, рядами. Мороженые свиньи - как дрова лежат на версту. Завалит снегом, а из под снега рыла да зады. А то чаны, огромные, да… с комнату, пожалуй! А это солонина. И такой мороз, что и рассол то замерзает… - розовый ледок на солонине. Мясник, бывало, рубит топором свинину, кусок отскочит, хоть с полфунта, - наплевать! Нищий подберет. Эту свиную «крошку» охапками бросали нищим: на, разговейся! Перед свининой - поросячий ряд, на версту. А там - гусиный, куриный, утка, глухари тетерьки, рябчик… Прямо из саней торговля. И без весов, поштучно больше. Широка Россия, - без весов, на глаз. Бывало, фабричные впрягутся в розвальни, - большие сани, - везут смеются. Горой навалят: поросят, свинины, солонины, баранины… Богато жили.
Перед Рождеством, дня за три, на рынках, на площадях, - лес елок! А какие елки! Этого добра в России сколько хочешь. Не так, как здесь, - тычинки. У нашей елки… как отогреется, расправит лапы, - чаща. На Театральной площади, бывало, - лес. Стоят, в снегу. А снег повалит, - потерял дорогу! Мужики в тулупах, как в лесу. Народ гуляет, выбирает. Собаки в елках - будто волки, право. Костры горят, погреться. Дым столбами. Сбитенщики ходят, аукаются в елках: «Эй, сладкий сбитень! калачики горячи!..» В самоварах, на долгих дужках, - сбитень. Сбитень? А такой горячий, лучше чая. С медом, с имбирем, - душисто, сладко. Стакан - копейка. Калачик мерзлый, стаканчик сбитню, толстенький такой, граненый, - пальцы жжет. На снежку, в лесу… приятно! Потягиваешь понемножку, а пар - клубами, как из паровоза. Калачик - льдышка. Ну, помакаешь, помягчеет. До ночи прогуляешь в елках. А мороз крепчает. Небо - в дыму - лиловое, в огне. На елках иней. Мерзлая ворона попадется, наступишь - хрустнет, как стекляшка. Морозная Россия, а… тепло!..
В сочельник, под Рождество, - бывало, до звезды не ели. Кутью варили, из пшеницы, с медом; взвар - из чернослива, груши, шепталы2… Ставили под образа, на сено. Почему?.. А будто - дар Христу Ну… будто Он на сене, в яслях. Бывало, ждешь звезды, протрешь все стекла. На стеклах лед, с мороза. Вот, брат, красота то!.. Елочки на них, разводы, как кружевное. Ноготком протрешь - звезды не видно? Видно! Первая звезда, а вон - другая… Стекла засинелись. Стреляет от мороза печка, скачут тени. А звезд все больше. А какие звезды!.. Форточку откроешь - резанет, ожжет морозом. А звезды!.. На черном небе так и кипит от света, дрожит, мерцает. А какие звезды!.. Усатые, живые, бьются, колют глаз. В воздухе то мерзлость, через нее то звезды больше, разными огнями блещут, - голубой хрусталь, и синий, и зеленый, - в стрелках. И звон услышишь. И будто это звезды - звон то! Морозный, гулкий, - прямо серебро. Такого не услышишь, нет. В Кремле ударят, - древний звон, степенный, с глухотцой. А то - тугое серебро, как бархат звонный. И все запело, тысяча церквей играет. Такого не услышишь, нет. Не Пасха, перезвону нет, а стелет звоном, кроет серебром, как пенье, без конца начала… - гул и гул.
Ко всенощной. Валенки наденешь, тулупчик из барана, шапку башлычок, - мороз и не щиплет. Выйдешь - певучий звон. И звезды. Калитку тронешь, - так и осыплет треском. Мороз! Снег синий, крепкий, попискивает тонко тонко. По улице - сугробы, горы. В окошках розовые огоньки лампадок. А воздух… - синий, серебрится пылью, дымный, звездный. Сады дымятся. Березы - белые виденья. Спят в них галки. Огнистые дымы столбами, высоко, до звезд. Звездный звон, певучий, - плывет, не молкнет; сонный, звон чудо, звон виденье, славит Бога в вышних, - Рождество.
Идешь и думаешь: сейчас услышу ласковый напев молитву, простой, особенный какой то, детский, теплый… - и почему то видится кроватка, звезды.
Рождество Твое, Христе Боже наш,
Возсия мирови свет разума…
И почему то кажется, что давний давний тот напев священный… был всегда. И будет.
На уголке лавчонка, без дверей. Торгует старичок в тулупе, жмется. За мерзлым стеклышком - знакомый Ангел с золотым цветочком, мерзнет. Осыпан блеском. Я его держал недавно, трогал пальцем. Бумажный Ангел. Ну, карточка… осыпан блеском, снежком как будто. Бедный, мерзнет. Никто его не покупает: дорогой. Прижался к стеклышку и мерзнет.
Идешь из церкви. Все - другое. Снег - святой. И звезды - святые, новые, р ождественские звезды. Рождество! Посмотришь в небо. Где же она, та давняя звезда, которая волхвам явилась? Вон она: над Барминихиным двором, над садом! Каждый год - над этим садом, низко. Она голубоватая, святая. Бывало, думал: «Если к ней идти - придешь туда. Вот прийти бы… и поклониться вместе с пастухами Рождеству! Он - в яслях, в маленькой кормушке, как в конюшне… Только не дойдешь, мороз, замерзнешь!» Смотришь, смотришь - и думаешь: «Волсви же со звездою путеше эствуют!..»
ождественские звезды. Рождество! Посмотришь в небо. Где же она, та давняя звезда, которая волхвам явилась? Вон она: над Барминихиным двором, над садом! Каждый год - над этим садом, низко. Она голубоватая, святая. Бывало, думал: «Если к ней идти - придешь туда. Вот прийти бы… и поклониться вместе с пастухами Рождеству! Он - в яслях, в маленькой кормушке, как в конюшне… Только не дойдешь, мороз, замерзнешь!» Смотришь, смотришь - и думаешь: «Волсви же со звездою путеше эствуют!..»
Волсви?.. Значит - мудрецы, волхвы. А маленький я думал - волки. Тебе смешно? Да, добрые такие волки, - думал. Звезда ведет их, а они идут, притихли. Маленький Христос родился, и даже волки добрые теперь. Даже и волки рады. Правда, хорошо ведь? Хвосты у них опущены. Идут, поглядывают на звезду. А та ведет их. Вот и привела. Ты видишь, Ивушка? А ты зажмурься… Видишь - кормушка с сеном, светлый светлый мальчик, ручкой манит?.. Да, и волков… всех манит. Как я хотел увидеть!.. Овцы там, коровы, голуби взлетают по стропилам… и пастухи, склонились… и цари, волхвы… И вот подходят волки. Их у нас в России мно го!.. Смотрят, а войти боятся. Почему боятся? А стыдно им… злые такие были. Ты спрашиваешь - впустят? Ну, конечно, впустят. Скажут: ну, и вы входите, нынче Рождество! И звезды… все звезды там, у входа, толпятся, светят… Кто, волки? Ну, конечно, рады.
Бывало, гляжу и думаю: прощай, до будущего Рождества! Ресницы смерзлись, а от звезды все стрелки, стрелки…
Зайдешь к Бушую. Это у нас была собака, лохматая, большая, в конуре жила. Сено там у ней, тепло ей. Хочется сказать Бушую, что Рождество, что даже волки добрые теперь и ходят со звездой… Крикнешь в конуру: «Бушуйка!» Цепью загремит, проснется, фыркнет, посунет мордой, добрый, мягкий. Полижет руку, будто скажет: да, Рождество. И - на душе тепло, от счастья. Мечтаешь: Святки, елка, в театр поедем… Народу сколько завтра будет! Плотник Семен кирпичиков мне принесет и чурбачков, чудесно они пахнут елкой!.. Придет и моя кормилка Настя, сунет апельсинчик и будет целовать и плакать, скажет: «Выкормочек мой… растешь…» Подбитый Барин придет еще, такой смешной. Ему дадут стаканчик водки. Будет махать бумажкой, так смешно. С длинными усами, в красном картузе, а под глазами «фонари». И будет говорить стихи. Я помню:
И пусть ничто с за этот Праздник
Не омрачает торжества!
Поднес почтителъно с проказник
В сей день Христова Рождества!
В кухне на полу рогожи, пылает печь. Теплится лампадка. На лавке в окоренке оттаивает поросенок, весь в морщинках, индюшка серебрится от морозца. И непременно загляну за печку, где плита: стоит?.. Только под Рождество бывает. Огромная, во всю плиту, - свинья! Ноги у ней подрублены, стоит на четырех култышках, рылом в кухню. Только сейчас втащили, - блестит морозцем, уши не обвисли. Мне радостно и жутко: в глазах намерзло, сквозь беловатые ресницы смотрит… Кучер говорил: «Велено их есть на Рождество, за наказание! Не давала спать Младенцу, все хрюкала. Потому и называется - свинья! Он ее хотел погладить, а она, свинья, щетинкой Ему ручку уколола!» Смотрю я долго. В черном рыле - оскаленные зубки, «пятак», как плошка. А вдруг соскочит и загрызет?.. Как то она загромыхала ночью, напугала.
И в доме - Рождество. Пахнет натертыми полами, мастикой, елкой. Лампы не горят, а все лампадки. Печки трещат пылают. Тихий свет, святой. В холодном зале таинственно темнеет елка, еще пустая, - другая, чем на рынке. За ней чуть брезжит алый огонек лампадки, - звездочки, в лесу как будто… А завтра!..
А вот и - завтра. Такой мороз, что все дымится. На стеклах наросло буграми. Солнце над Барминихиным двором - в дыму, висит пунцовым шаром. Будто и оно дымится. От него столбы в зеленом небе. Водовоз подъехал в скрипе. Бочка вся в хрустале и треске. И она дымится, и лошадь, вся седая. Вот мо роз!..
Топотом шумят в передней. Мальчишки, славить… Все мои друзья: сагюжниковы, скорнячата. Впереди Зола, тощий, кривой сапожник, очень злой, выщипывает за вихры мальчишек. Но сегодня добрый. Всегда он водит «славить». Мишка Драп несет Звезду на палке - картонный домик: светятся окошки из бумажек, пунцовые и золотые, - свечка там. Мальчишки шмыгают носами, пахнут снегом.
- «Волхи же со Звездою питушествуют!» - весело говорит Зола.
Волхов приючайте,
Святое стречайте,
Пришло Рождество,
Начинаем торжество!
С нами Звезда идет,
Молитву поет…
Он взмахивает черным пальцем, и начинают хором:
Рождество Твое, Христе Бо же наш…
Совсем не похоже на Звезду, но все равно. Мишка Драп машет домиком, показывает, как Звезда кланяется Солнцу Правды. Васька, мой друг, сапожник, несет огромную розу из бумаги и все на нее смотрит. Мальчишка портного Плешкин в золотой короне, с картонным мечом серебряным.
- Это у нас будет царь Кастинкин, который царю Ироду голову отсекает! - говорит Зола. - Сейчас будет святое приставление! - Он схватывает Драпа за голову и устанавливает, как стул. - А кузнечонок у нас царь Ирод будет!
Зола схватывает вымазанного сажей кузнечонка и ставит на другую сторону Под губой кузнечонка привешен красный язык из кожи, на голове зеленый колпак со звездами.
- Подымай меч выше!- кричит Зола. - А ты, Степка, зубы оскаль страшней! Это я от бабушки еще знаю, от старины!
Плешкин взмахивает мечом. Кузнечонок страшно ворочает глазами и скалит зубы. И все начинают хором:
Приходили вол хи,
Приносили бол хи,
Приходили вол хари,
Приносили бол хари,
Ирод ты Ирод,
Чего ты родился,
Чего не хрестился,
Я царь - Кастинкин,
Маладенца люблю,
Тебе голову срублю!
Плешкин хватает черного Ирода за горло, ударяет мечом по шее, и Ирод падает, как мешок. Драп машет над ним домиком. Васька подает царю Кастинкину розу. Зола говорит скороговоркой:
- Издох царь Ирод поганой смертью, а мы Христа славим носим, у хозяев ничего не просим, а чего накладут - не бросим!
Им дают желтый бумажный рублик и по пирогу с ливером, а Золе подносят и зеленый стаканчик водки. Он утирается седой бородкой и обещает зайти вечерком спеть про Ирода «подлинней», но никогда почему то не приходит.
Позванивает в парадном колокольчик, и будет звонить до ночи. Приходит много людей поздравить. Перед иконой поют священники, и огромный дьякон вскрикивает так страшно, что у меня вздрагивает в груди. И вздрагивает все на елке, до серебряной звездочки наверху.
Приходят уходят люди с красными лицами, в белых воротничках, пьют у стола и крякают.
Гремят трубы в сенях. Сени деревянные, промерзшие. Такой там грохот, словно разбивают стекла. Это - «последние люди», музыканты, пришли поздравить.
- Береги шубы! - кричат в передней.
Впереди выступает длинный, с красным шарфом на шее. Он с громадной медной трубой и так в нее дует, что делается страшно, как бы не выскочили и не разбились его глаза. За ним толстенький, маленький, с огромным прорванным барабаном. Он так колотит в него култышкой, словно хочет его разбить. Все затыкают уши, но музыканты играют и играют.
Вот уже и проходит день. Вот уж и елка горит - и догорает. В черные окна блестит мороз. Я дремлю. Где то гармоника играет, топотанье… - должно быть, в кухне.
В детской горит лампадка. Красные языки из печки прыгают на замерзших окнах. За ними - звезды. Светит большая звезда над Барминихиным садом, но это совсем другая. А та, Святая, ушла. До будущего года.
К.Лукашевич. Заветное окно (рождественский рассказ).
Был конец рождественского поста. Уже несколько дней стояли лютые сибирские морозы. Казалось, все застыло в воздухе, всюду замерла жизнь, и ледяное дыхание зимы было опасно для всякого, кто отважился бы показаться на улице.
Зима в том году стала рано. Снегу выпало много. И этот белый, пушистый, крепкий снег сплошь покрывал и леса, и поля, и дороги; иную деревню или небольшой городок так засыпал, занес, что как будто туда не было ни прохода, ни проезда.
В самый Рождественский сочельник мороз был особенно силен. У путников захватывало дыхание, слипались глаза, покрывались сосульками усы, брови, ресницы; многие отморозили себе ноги, руки, носы, уши; иные и совсем погибли в пути, птицы замерзали на лету.
Когда стемнело, глубокое синее небо загорелось мириадами огоньков, узенький серебристый рог луны показался на горизонте, а окрестный воздух был особенно тих, и прозрачен, и резок, как это бывает в сильные морозы.
Среди невообразимого снежного поля, которому в темноте не виделось конца, шли два путника. Кругом было тихо, темно; ни звука, ни движения... Лишь в небе сияли звезды, да под ногами хрустел крепкий снег. Если зорко присмотреться, то поэтому блестящему белому снегу вилась протоптанная узкая тропинка.
Путники шли молча, поминутно сбиваясь с тропинки и увязая по сторонам в снегу. Один был закутан с ног до головы в какую-то хламиду, должно быть, в сибирскую доху, другой - в коротком кафтане, и голова его была обмотана платком.
- Бррр... Околел! Руки и ноги знобит... Должно быть, капут... Не дойти... - дрожащим голосом, заикаясь, проговорил последний.
- Молчи, Рыжий... Скоро дойдем... Я эти места знаю... Будет работа... Обогреемся... - отвечал другой басом, покашливая.
- Знаю эти места и я... Только работа тебе будет во какая: меня в яму свалить.
- Шагай, шагай! Знай помалкивай... Скоро дома будем, - подбадривал товарища спутник.
- Мой дом между четырьмя досками.
- Перестань-ка... Поди, родненькие ждут... Каши, щей, пельменей жирных наварили, гуся зажарили... Теперь праздничек.
Спутник его ничего не ответил, но тяжело вздохнул, и неопределенный стон вырвался из его груди.
- Мороз-то тебя спугнул, Рыжий... Никак, ты хнычешь? Эх ты, баба! - упрекнул товарищ.
В это время оба они замолчали и замедлили шаг: дорога пошла в гору - и чем дальше, тем круче. Длинная доха одного пешехода мешала ему; он то и дело спотыкался, даже два раза упал и вставал с громкой бранью; другой, что был в коротком кафтане и платке, шел, охая, вздыхая, и что-то бормотал про себя непонятное... Они взошли на гору.
- Видишь... Так я и знал! За этой горой не то село, не то городишко... Дрянной, маленький... Да ничего себе... Будет работа - будет и хлебец, - многозначительно проговорил тот, что был в дохе.
Другой остановился как вкопанный, дышал тяжело и прерывисто и хватался рукой то за голову, то за грудь, как будто ему было больно или он вспоминал что-то, силился высказать и не мог...
-Да, да... городишко... Село... дрянное, маленькое... так... незначащее, - бормотал он, поминутно откашливаясь, как будто подавился или кто-нибудь хватал его за горло...
- Эй, приятель, никак, ты ополоумел с морозу... Рыжий, ты что дуришь?! Тебе я говорю...
-Я ничего, Косой... ничего... Не кричи... Сам знаю... Вижу... Чего пристал...
- Полно тебе, приятель, пойдем... Не то и взаправду замерзнем... Даже меня пробирает, а ты налегке, - уже смягчаясь, проговорил товарищ.
- Пойдем, - решительно выкрикнул его странный спутник. - Чур меня слушаться: я эти места признал... Бывал тут раньше, хорошо работал... Послушаешь - и дело будет сделано...
Наши приятели стали спускаться с горы. Мужчина, который был в дохе, искоса с удивлением посматривал на товарища и с горечью думал: "Немного рехнулся, бедняга... Придется его где-нибудь оставить".
Внизу, под горою, мерцали в темноте огоньки, слышалась вдали колотушка ночного сторожа, раздавался лай собак, бегавших на цепях около жилища.
Наши пешеходы были уже близко. На пустынной улице большого сибирского села никого не было видно, не слышно было никакого движения. В избах виднелись огни. В эту торжественную ночь никто не спал: вернувшись из храма и дождавшись первой звезды, православные радостно встречали праздник, каждый - как мог.
- Что это за городишко? Али село большое? - спросил мужчина в дохе, останавливаясь около изгороди, отделявшей какое-то поле, и всматриваясь вдаль.
Там в темноте мелькали силуэты домов, занесенных снегом.
- А кто его знает... Так, кажись, село, - послышался глухой ответ.
- У-у-у-у! Как холодно! Хоть бы в трактир зайти, обогреться...
- Заходи... Коли еще шея цела... Много ли у тебя капиталов-то на кутеж?
- Медный грош да пуговица.
-Деньги большие, Косой... Раскутиться есть на что...
- Слышишь, собаки заливаются...
- Город мал, а собак много...
- Пусть лают, волков пугают...
- Мы хошь волки, да двуногие... Не испугаемся.
- Есть ли у тебя для них угощение, Рыжий?
- Есть. Еще три лепешки...
- Сыты будут...
- Что ж мы, вместе за дело примемся?.. Надо оглядеться...
- Ты осторожнее... Топор при тебе ли?
- При мне... За поясом.
- А лом где? А отвертка?..
Тот, что был в коротком кафтане, ничего не ответил. Прислонившись к плетню, он стоял как окаменелый и что-то соображал...
- Рыжий, гляди, вот домишко в стороне... Способно. Близко жилья нет... Осмотримся, да и за работу... Дай-кось мне топор. Пойдем... - и товарищ его крадучись двинулся вперед.
Рыжий рванулся за ним. Он хорошо знал этот дом: он шел к нему, и теперь все его помыслы были направлены к тому, чтобы товарищ ни о чем не догадался и чтобы его удалить.
- Стой... Нет... Нельзя... Тут собаки... Опасно...
- Что ты мелешь?
- Подожди, что я тебе скажу... Слушай! Тут нельзя... Тут злые собаки...
- Ты что же, шутки шутишь?! Смеешься, что ли?! Смотри у меня. Давай сюда топор! Я один пойду! - грозным шепотом крикнул мужчина в дохе и, весь трясясь от злобы, подступил к товарищу, сжимая кулаки. Тот отступил.
- Не серчай, Косой... Полно, что тут... Правда, у меня в голове словно кто шилом вертит... Все запамятовал...
- Дай мне топор и отвертку... Я пойду один... Ну тебя. Провались ты сквозь землю... Знать тебя не хочу!..
- Слушай, Косой... Я вспомнил... У меня двадцать восемь копеек есть. Отвались мой язык, коли я вру...
- Что ж ты раньше, черт, не говорил?...
- Вот возьми... Иди скорее в трактир... Я один обработаю этот домишко... Одному лучше... А ты как выйдешь из села, там на повороте харчевня будет... Ты обогрейся... За харчевней гора, за горой такая лощинка, дальше лесок... В лесу меня и жди... Я тебя на рассвете нагоню...
Мужчина в коротком кафтане засуетился, присел, стал шарить за сапогом, и в его руках действительно скоро брякнули медные деньги.
- Вот, бери, тут двадцать восемь копеек... Так все и сделай, как я сказал...
- Ну тебя к свиньям!.. С тобой и впрямь беды наживешь, - буркнул в ответ ему товарищ и, взяв деньги, направился в сторону, подумав про себя: "У него на чердаке не в порядке, пусть его схватят и в сумасшедший дом упрячут... Надоел хуже горькой редьки!.."
Между тем другой прохожий ползком, крадучись приблизился к маленькой крайней хатке... Это была сибирская заимка в три окна, в стороне от села... Кругом - невысокий забор, кой-какие угодья, дальше - еще изба, не то сарай, не то старая баня с окном, которое зияло своим черным отверстием. Окна в жилом доме были накрепко закрыты ставнями, и сквозь щели пробивались узенькие полоски света.
Несчастный бродяга или беглый (конечно, это был именно бродяга, подползший к этому дому с недобрыми намерениями) приподнялся около окон... Он протянул вперед руки, как бы лаская и охватывая дом, прильнул к щели и весь затрясся... Из его груди вырывались сдержанные глухие вздохи и едва слышные стоны... Он боялся, вероятно, что его услышат...
Но кругом была невозмутимая тишина. Собаки лаяли вдали, колотушка сторожа слышалась еще дальше... В маленьком доме как будто все заснули или вымерли.
Бродяга, шатаясь, побрел около дома и остановился около избы с одним окном. Он забыл и про лютый мороз и про опасность быть пойманным. Он приподнялся на цыпочки и заглянул в окно... Оно было небольшое, - едва могла пролезть голова, - без ставней, без стекол, просто какое-то странное отверстие, неизвестно для чего... (В Сибири во многих селах и сейчас есть обычай, в избах делать открытые окна, на них кладут хлеб, деньги. Про это подаяние знают бродяги и ночью уносят их)
И вдруг в этом окне мелькнула детская рука. "Тут положу... Прежний весь взяли... Должно быть, прошли..." - прошептал детский голос. Руки стали что-то шарить и укладывать. Едва они сделали движение по подоконнику, как внезапно их схватили другие руки - большие, сильные, холодные. Мальчик ахнул, хотел громко крикнуть, но его рот зажали, голову охватили те же сильные и холодные руки. "Молчи! Молчи, милый! Кеша, не пугайся...- Молчи!" - послышался чей-то шепот и глухое, сдавленное рыдание. Затем на мгновение наступила тишина...
II
Большое сибирское село Тагильское тянулось на три версты. Оно пролегало по главному сибирскому тракту, и его единственная улица, застроенная по обе стороны домами, то спускалась с горы, то поднималась в гору. Рядом с большими, красивыми деревянными домами ютились бедные избы, как и во всех сибирских селах. Жители Тагильского по преимуществу занимались извозом и содержанием лошадей для почтовой гоньбы. Жизнь текла там однообразно, - только приезжие вносили оживление, да и к ним уже все привыкли.
Перед праздниками село оживлялось: из столиц подвозили товары, из окрестных сел, стоявших в стороне, из заимок и юрт инородцев приносили местные продукты. Праздники встречали каждый по своим средствам, но главным образом ели и пили. В двухэтажных домах жарили козлятину, лосину, гусей, поросят, баранину, варили пельмени, готовили пироги с нельмой, максунами, омулями, пекли шанежки и пшеничники и всякое другое вкусное сибирское печенье. В бедных домах и избах готовилось всего, конечно, мало, а часто и готовить-то было нечего.
В крайней хатке, которая стояла особняком в конце села, казалось, забыли, что наступал большой праздник. Не видно было предпраздничного оживления: уборки, стряпни, приготовлений; не слышно было веселых голосов. Или люди, жившие тут, были до крайности бедны, или их не радовал наступавший праздник. Однако в горнице не замечалось признаков нужды: столы, скамейки, сундуки, кое-какая домашняя утварь, посуда, на окнах занавески и цветы - все было в исправности...
У стола, опустив голову, сидела молодая женщина; в руках у нее была чашка и полотенце; она что-то делала, потом присела и глубоко задумалась, позабыв обо всем на свете... Лицо ее было печально, в глазах светилась тупая покорность...
За печью кто-то кряхтел, охал и вздыхал в этих вздохах тоже слышалось горе. По горнице медленно пробирался огромный сибирский кот; его пушистый длинный хвост волочился по полу, и плутовские глаза еле виднелись из-за длинной шерсти, покрывавшей и голову и все туловище. Женщина, сидевшая у стола, шевельнулась, еще ниже нагнула голову, еще глубже задумалась. Кот перепугался и стремительно бросился от нее под печку; верно, и ему жилось невесело.
Скрипнула дверь и отворилась: вошел мальчик, высокий, коренастый, в тулупчике и в огромных валенках. Его открытое лицо было простодушно и весело, в живых глазах светилась детская радость... Но, войдя в избу и окинув все пытливым взглядом, он съежился, улыбка сбежала с его губ. Сняв мохнатую шапку, он вертел ее в руках, переминался и, почесывая трепаную головенку, то заглядывал за печь, то посматривал на сидевшую у стола женщину. Она точно окаменела, не шелохнулась и даже не взглянула на него...
Мальчик все порывался заговорить и, наконец, решился:
-Мама, мама!
Никто ему не ответил. Увидев кота, вылезшего из-под печки, мальчик подозвал его, присел на пол, стал гладить и нечаянно наступил на хвост. Кот мяукнул. Женщина сорвалась с места.
- Чего ты балуешь! Угомону на тебя нет! - крикнула она сердито.
Мальчик, по-видимому, мало испугался.
- Мама, а мама, слушай!
- Что тебе?
- Звезда уже пришла... Ночь светлая, морозная... Небо ясное...
Мать ему ничего не ответила и стала чего-то искать в углу, полезла на полку, переставила там горшки и опять задумалась.
- Мама, а мама, у доктора будет елка, у урядника будет елка, и в школе...
- Провались они все и с елками... Нам-то что?..
На мальчика взглянули впалые, полные слез глаза. Он не стал больше разговаривать о том, что его интересовало и, очевидно, рвалось у него с языка: раздевшись, он присел на скамейку с котом на руках и, вздохнув, спросил:
- Мама, а ужинать будем?
- И то... Забыла я... Маменька, вставай... Я ужин соберу...
За печкой послышалось движенье, оханье, вздохи, и оттуда вышла маленькая, сгорбленная старушка; глаза у нее были тусклые, голова тряслась. Она поглядела на мальчика, подошла к нему, погладила по голове и села рядом.
- Бабушка, сегодня у доктора будет елка... а завтра у урядника, а послезавтра в школе, - шепотом сообщил мальчик.
- Молчи... Тише ты... - и старушка кивнула головой на молодую женщину.
Мальчик пригнулся головой к самому уху старушки и зашептал:
- Слышь, бабушка, гостинцев-то доктору из Москвы прислали. Хорошие страсть, разные, разные... А в школе фонарь такой будет... И сказки читать будут...
- Тише ты...
- Однако, бабушка, пустит ли мама меня в школу-то на елку? - чуть слышно прошептал мальчик. В это время молодая женщина вышла из горницы.
- Бабушка, мама-то все молчит либо ругается, - заметил мальчик с горечью.
- Ох, Кеша, у нее тяжелое горе... Я-то что... И глаза выплакала и душу иссушила... Скоро и конец... А она молода... Долго еще ей горевать, маяться.
Мальчик задумался,
- Что делать! Надо нести тяжелый крест... Сам Господь нес и не роптал, - продолжала старушка и дрожав щей рукой обнимала внука.
- Твой отец, Кеша, разбойник... А ты все-таки молись за него, вспоминай, проси Господа простить его...! Тяжко, дитятко, думать о нем. Все-таки жаль... сердце болит... - старушка заплакала.
- А маме его не жаль, - сказал мальчик, как бы отвечая на свои мысли.
- Жалеет... Она уж такая гордая... Не покажет... Все в себе таит... Хоть и разбойник, а все-таки жалеет...
В это время молодая женщина вернулась с краюшкой хлеба.
- Садитесь ужинать, - сказала она тихо.
- Вот и праздничек пришел, - проговорила старушка, крестясь и двигаясь к столу.
Ужин был скромный: только похлебка дымилась на столе, стоял горшок каши, лежал нарезанный хлеб да лепешки.
- А в позапрошлом году у нас и гусь был, и пельмени, и шаньги, - вспомнил было Кеша.
- Господи! Это не ребенок! Это бревно бесчувственное! - вскрикнула молодая женщина и, упав на скамейку, зарыдала горько, отчаянно, беспомощно.
Старушка нагнулась к ней.
- Полно, Агаша... Грешно так убиваться... Разве он понимает... Дитя малое, неразумное...
- И дети чувствуют... А этот каменный... жестокий...
- Лучше молись, Агаша... Не плакать, не гневаться, а молиться надо, чтобы Он помог снести горе... И за грешную душу молись...
- Думать о нем не хочу!.. - сквозь рыдания отчаянно твердила женщина.
- Уймись, Агашенька!.. Всем нелегко... Пожалей и нас... На дворе такой праздник...
- Праздник другим... Нам хуже буден... На людей смотреть зазорно... Все он, злодей! Из-за него свету не видим, горе мыкаем...
Кеша испуганно смотрел на мать. Опять она плачет, клянет отца... Конечно, он сделал им зло... И в голове мальчика, как в панораме, промелькнули недавние годы, когда нагрянула на них страшная беда. Отец и раньше запивал, а потом связался с какой-то пьяной, бесшабашной компанией, все собирался идти на золотые прииски... А тут около их села напали на денежную почту и ямщика и почтальона убили... Был ли в том виноват отец, никто доподлинно не знает. Бабушка уверяет, что он на такое дело не пойдет... Но его забрали, посадили в тюрьму, повели в город на суд, и дорогой, говорят, он бежал... Вот уже два года о нем ни слуху ни духу. Где-то он, жив ли, сыт ли?.. Может, в эту морозную ночь один в лесу; может, погиб, замерз.
Кеше жаль его до слез. Отец, бывало, берег его, ласкал, и мать любил, жалел... Все зло пошло от вина, как говорит бабушка, да от товарищей... Старуха извелась и совсем ослепла от слез. Вот и мать худеет, чахнет, стала как тень... Трудно им теперь и с лошадьми справляться, и хозяйство без мужика плохо идет.
Мальчик подошел к матери, хочется ему ее утешить да не умеет.
- Мама, мамушка, - проговорил он ласково. Бедная женщина вскочила, отерла слезы, лицо ее стало снова суровым, злобным, отупелым.
- Ужин простыл, - заметила она, садясь к столу, но сама ни до чего не притронулась, и старушка тоже ничего не ела. Один мальчик со здоровым детским аппетитом поел и похлебки, и каши, и лепешек.
Мать после ужина отрезала несколько больших ломтей хлеба, посолила и сказала, подавая сыну;
- Снеси, Кеша, туда... - голос ее дрогнул.
- Мама, вчерашний хлеб взяли! И у Савельевых взяли, а вот у Митрохиных и посейчас лежит. Не берут...
- У них собаки злые... Должно быть, боятся, - прошамкала бабушка.
- Погоди, Кеша, я и сала кусок отрежу... Тоже положи. Молодая женщина вышла из горницы и тотчас же вернулась с мешком в руках. Она достала из него большой кусок сала и отрезала добрую половину.
- Сало - это хорошо... Нынче мороз лютый... На морозе съесть кусок сала - живо согреешься... Все равно, что в печку дровец положить!.. Сало - очень хорошо, - говорила бабушка и ласково глядела на невестку, мигая подслеповатыми глазами.
- Иди, Кеша, положи все. Да смотри, не урони... А я тут мигом уберусь, да и спать...
Мальчик надел полушубок, шапку, рукавицы, забрал хлеб и сало и выбежал из избы. Поручение матери было для него дело обычное, и он исполнял его охотно.
III
Мальчик замешкался... Когда через некоторое время он вбежал в избу, на нем лица не было. Бледный как полотно, он весь трясся и едва переводил дух.
- Что с тобой? Говори... Что случилось? - испуганно спросила мать, подбегая к нему и усаживая его на скамейку.
- Мамушка, знаешь ли... - начал было мальчик и заплакал.
Бабушка вышла из-за печки, куда она уже убралась спать. Подошедши близко к внуку, она силилась разглядеть его и вся дрожала.
- Что случилось, дитятко?
- Отчего ты так долго? Воры там? Говори, не мучь! - умоляющим голосом спрашивала мать, теребя мальчика за рукав.
- Мама, я тебе скажу... Вот что...
- Говори скорее, прибил тебя кто?
- Мамушка, отец приходил... Правда, правда... Он велел кланяться... Правда...
Если бы удар грома разразился над этими людьми, если бы внезапно вспыхнула вся изба, - они не могли бы быть более поражены, ошеломлены...
Бабушка покачнулась, почти упала на скамейку, плакала и крестилась... Агафья глядела на сына дикими глазами и махала растерянно рукой...
- Путаешь! Пустое! Врешь... Ты не в своем уме, - повторяла она отрывисто.
- Ей-Богу, мама... Правда, бабушка...
- Не может быть! Ты обознался!
- Тебе причудилось в темноте...
- Да нет же, мамушка... Он... рыжая борода... Ведь я же знаю... Говорил со мной, заикался... Держал меня за голову руками... Плакал...
- Ах, Боже мой! Где же он?! Что же ты нас не кликнул... Куды он пошел? Да правда ли!.. Путаешь ты, врешь... Говори, куды он пошел?!
И, не слушая больше слов мальчика, обе женщины, как были в одних платьях, выбежали на двор... Но нежданного гостя и след простыл... На улице было тихо, никого не видно... Только мороз сильно давал себя знать.
Агафья выбежала за ворота, метнулась туда-сюда... Где-то поблизости у соседей раздался выстрел и гулко пронесся в тишине. Этими выстрелами в сибирских городах и селах мирные обыватели пугают по ночам воров, дают знать, что не спят и караулят свои дома... Собаки залаяли во всех концах.
Молодая женщина схватилась за грудь и вбежала стремительно в избу...
- Что же ты не позвал, не кликнул?! Это не ребенок! Это бревно бесчувственное!
Бабушка сидела около внука и расспрашивала его сквозь слезы.
- Не гневи Бога, Агаша... Молиться надо... Оставь Кешу! Ну, что же? - обратилась она к мальчику. - Как он? А ты ему что?.. Говори скорее... Сначала говори...
Кеша вопросительно взглянул на мать... Та кивнула головой и прислонилась к стене.
- Говори сначала...
Мальчик рассказал все по порядку. Когда мама дала ему хлеб и сало, он выбежал на двор, прошел в закутку и выглянул в окошко. Тихо было, на небе звездочек тьма, и снег яркий, белый... Только и видно было небо да снег... А под окно ему посмотреть и невдомек. Смахнул он снег с подоконника, положил сало, положил хлеб, хотел уже идти, как вдруг его схватила чья-то рука... Он испугался до полусмерти и крикнул... Верно, не слышали. Хотел еще крикнуть громче, а руки ему зажали рот и голову охватили, и кто-то говорит так жалобно: "Молчи! Молчи, милый Кеша! не пугайся... Молчи..."
- Мама, бабушка, я его сразу признал... рыжий... заикается...
- Признал, дитятко... Как не признать-то?! Кровь заговорила, - прошептала старушка и залилась слезами.
- Ой, не верится, маменька! Кеша, да неужто правда?..
- Правда, мама. Плакал он... Меня гладит по голове... а сам плачет... Говорит все: "Милый да милый... молчи... не пугайся".
А ты что же? - спросила Агафья, и лицо ее озарилось улыбкой, которой давно уже не видали домашние, и в глазах мелькнула живая радость.
- Я, мама, шибко испугался... Хотел вас кричать, хотел бежать; не могу - он держит. Говорит: "Подожди, не ходи, мне их видеть нельзя; а тебя, - говорит, - мне Сам Бог послал".
- И про Бога вспомнил в горе, сынок!.. То-то раньше бы помнил да призывал Его... Не сбился бы с пути и не сгубил бы себя и семью... - шептала с горечью старушка.
- Что же он, Кеша, про нас-то говорил? - снова спросила мать и впилась глазами в сына.
- Говорил: "Кланяйся маме и бабушке в ножки... Скажи, что прошу прощения... Скажи, что, если Господь направит меня на добрый путь, я к ним приду... Они у меня всегда в уме..."
- Так и сказал "они у меня в уме"?
- Да, так и сказал и заплакал.
- Злодей! Если б думал о нас да жалел, не пошел бы на злое дело... И мы бы не мучились, - с горечью проговорила Агафья и задумалась.
- Как же он одет-то несчастный? - снова спросила она, и голос ее смягчился.
- Не приметил, мама... Мне и ни к чему... Кажись, на голове платок.
- Какая уж тут одежда... Поди, в такую стужу и руки и ноги отморожены... - прошамкала бабушка.
- Что же ты ему про нас сказал? - спросила мать.
- Ничего не сказал, мама...
- Глупый, тебе бы сказать, какую мы муку из-за него терпим, как нам глаза в люди показать совестно...
- Полно, Агаша, разве дитя что понимает... Тут и большой потеряется... Ребенок испугался, где ж ему все сказать, - заметила старушка.
- В какую он сторону пошел-то?..
- Прямо пошел... Он, мама, и хлеб и сало взял, перекрестился и за пазуху положил.
Бабушка заплакала, заплакала и Агафья.
И долго-долго, далеко за полночь, в маленькой хатке шли расспросы. Мальчик уже ничего не мог сказать нового и в двадцатый раз повторял одно и то же, и в двадцатый раз задавала ему мать те же вопросы: "Ну, а он что? Так и сказал? А ты что? Про нас спросил? Что же ты сказал?"
Глядя на мать, Кеша думал: "Какая мама стала пригожая, лицо красное, в глазах точно огни, сама смеется".
-Ложитесь спать, желанные... Утро вечера мудренее, - ласково сказала Агафья. - Ложись, Кешенька, ложись, сынок... Я тебе мягонько постелю... Завтра на елку в школу пойдешь... - И она суетливо забегала по избе.
Даже старая бабушка с изумлением повела в сторону невестки подслеповатые глаза, а мальчик продолжал про себя дивиться: "Какая мама стала добрая, точно и не она, какая стала проворная и смеется... Чудно, право!" - мелькало в его головенке, и ему казалось, что у них стало теплее, светлее, точно правда наступил праздник, и бабушка ободрилась, улыбается, и кот без страха вспрыгнул на лавку, не опасаясь теперь получить шлепка.
Скоро все успокоилось, затихло в небольшом крайнем доме. Все улеглись спать. Кеша во сне улыбался: детские грезы приятны и веселы; бабушка долго ворочалась, охала и шептала молитвы. Только одна Агафья так и не смыкала глаз во всю ночь: ее мысли неслись вслед за одиноким прохожим: и корила-то она его мысленно, и прощала, и жалела... Зачем он не вызвал ее?.. С какой бы радостью она его обула, одела в дорогу, накормила бы... Несколько раз выбегала она за ворота и смотрела тревожно вдаль, возвращалась к окну, около которого свиделись отец с сыном, как будто кого-нибудь ожидая... С тех пор они обе, и старушка и молодая женщина, ждут и ждут... С особенной любовью и заботой кладут они хлеб и другую провизию на заветное окно... Может быть, подойдет еще праздник, и они дождутся того, кто обещал направиться на добрый путь и к ним вернуться.
Людмила Дунаева. Эльфрин. Сказка для детей и взрослых.
Давным-давно в одном далёком королевстве стряслась беда. В те времена подобные несчастья случались в далёких королевствах довольно часто. В пустынных горах неподалёку от столицы завёлся дракон. Ни один из рыцарей короля, ни все они вместе взятые ничего не могли с ним поделать.
Дракон был столь ужасен, что при виде него даже самый храбрый воин терял рассудок от страха и омерзения.
Очень скоро все рыцари королевства сошли с ума, и их пришлось запереть в сумасшедший дом. Дракон же продолжал бесчинствовать в своё удовольствие: жёг леса и пашни, отравляя воздух своим смрадным дыханием, и время от времени требовал на съедение девушку. С великой скорбью жители города исполняли его желание. В конце концов дракон обнаглел настолько, что приказал привести к нему королевскую дочь.
- Но у меня всего одна дочь! - вскричал несчастный король.
К счастью, принцесса была хорошей девушкой, и её любил не только отец. Многие придворные плакали вполне искренне, жалея бедняжку. Не говоря уже о служанках, которым принцесса за всю свою жизнь не отвесила ни одной оплеухи и не сказала ни одного грубого слова. Сердца женщин просто разрывались при мысли о том, что ждёт их прекрасную добрую госпожу. Дни напролёт служанки, проливая горькие слёзы, вспоминали и старые сказки, и жития святых, мечтая, чтобы кто-нибудь из легендарных воителей пришёл к ним в город и спас принцессу. Наконец, когда от горя и усталости их языки начали заплетаться, женщины вспомнили об эльфринах. Поскольку об этих существах знали далеко не все, служанки с большим интересом выслушали рассказ принцессиной кормилицы, которая, рассказав всё, что знала о них, вздохнула и промолвила:
- Сказочные они или нет, а больше нам надеяться не на кого!
Утерев глаза, смелая женщина встала и пошла прямо к королю.
В тот же день в королевском дворце состоялся совет. После того, как все сановники заняли свои места, король велел говорить самому старому придворному учёному.
- Так называемые эльфрины вовсе не сказочные существа, - произнес учёный. - Они такие же люди, как и мы с вами - я имею в виду их происхождение...
- Почему же их называют эльфринами? - спросил король.
- Тёмные, необразованные люди, Ваше Величество, дали им такое название. Образ жизни и род занятий налагает на эльфринов особый отпечаток, сообщая им таинственные свойства. Из-за этого их и путают с эльфами или феями, что является сущей нелепицей. Эльфы и феи существа хитрые, лукавые и далеко не всегда добрые, в то время как эльфрины...
- Даже если ваши эльфрины такие чудесные существа, - перебил кто-то, - разве они смогут нам помочь? Ведь наш дракон - само воплощенное зло!
- Именно с такими тварями эльфрины и сражаются, - ответил учёный. - Если вы позволите мне совершить экскурс в историю, я смогу всё объяснить...
Совершить экскурс король позволил, однако посоветовал учёному быть предельно кратким.
- Повинуюсь, Ваше Величество, - поклонился учёный. - Как вы, должно быть, знаете, в нашем подлунном мире идёт война добрых начал со злыми. К сожалению, в неё втянуты и люди. Большинство, правда, предпочитает не замечать этого обстоятельства. Но есть и те, кто сражается на стороне добра. Именно этих Небесных Воинов наш государь и решил позвать на помощь.
- Подождите, я еще ничего не решил, - буркнул король. - Сначала я хочу выяснить, чем я буду обязан так называемым Небесным Воинам, а проще - эльфринам за их услуги.
- К сожалению, эльфрины небескорыстны, - вздохнул учёный, - В нашем понимании. Кровь своих воинов они ценят высоко. Обычно взамен они требуют отдать им царского сына.
- Но у меня всего один сын! - возопил бедный король.
Придворные расходились с совета в полном смятении.
- Они, может, и защищают добро, - шептались они, - но, знаете ли, эти их небесные войны для людей крайне опасны! Недаром говорится: на войне как на войне... Уж лучше нам держаться от всего этого подальше...
Но держаться подальше не было возможности: дракон не давал. И король всё-таки принял решение.
В той же самой стране и даже почти что в столице жил мальчик. Звали его Иоганн Теодор Георг Михаэль. Он вовсе не был важной особой - просто в тех краях было принято давать по несколько имён даже самым бедным детям. А Иоганн Теодор был даже не самым бедным. У самых бедных детей нет родителей и крыши над головой, и им приходится просить милостыню под чужими окнами. А у Иоганна Теодора были и дом, и мама с папой.
той же самой стране и даже почти что в столице жил мальчик. Звали его Иоганн Теодор Георг Михаэль. Он вовсе не был важной особой - просто в тех краях было принято давать по несколько имён даже самым бедным детям. А Иоганн Теодор был даже не самым бедным. У самых бедных детей нет родителей и крыши над головой, и им приходится просить милостыню под чужими окнами. А у Иоганна Теодора были и дом, и мама с папой.
Сколько у него было братьев и сестёр, Иоганн Теодор не знал, потому что не умел считать. Но лет ему было примерно столько же. Большая семья жила неподалёку от городских стен в небольшом ветхом доме на краю села, терпеливо несла тяготы жизни и, отличаясь трезвым рассудком, на лучшее не надеялась.
Каково же было её изумление, когда в один прекрасный день к старенькой хибарке подкатила карета с королевскими гербами! Важный придворный объяснил отцу и матери Иоганна Теодора, что Его Величеству королю было угодно усыновить первого встречного мальчика, который окажется на пути кареты после того, как она выедет из города. Этим мальчиком оказался Иоганн Теодор Георг Михаэль.
Он как раз возвращался домой из лесу с вязанкой хвороста за плечами. Придворный велел ему бросить хворост и сесть в карету. Карета отвезла его прямо во дворец.
У Михаэля дух замирал, когда его вели по широкой светлой лестнице. В тронном зале собралась целая толпа богато разодетых вельмож. Король, восседавший на троне, строго посмотрел на мальчика, и Михаэль растерялся настолько, что забыл даже поклониться.
- Подойди ко мне, дитя, - велел король.
- Как тебя зовут? - спросил он, положив тяжелую руку на голову мальчика.
- Иоганн Теодор Георг Михаэль, - дрожащим голосом отвечал мальчик, - но можно просто Мильхен... Ваше Величество, - сообразил добавить он.
- Можно просто «отец», - как-то грустно улыбнулся король, - и даже не можно, а нужно. Ты меня понял?
- Да, я понял... папа, - запнувшись, ответил мальчик.
- Прекрасно! - ещё грустнее улыбнулся король. - Итак, да здравствует принц Михаэль!
Придворные подхватили клич и бурно захлопали в ладоши. Михаэль заметил, что из-за трона выглядывает какой-то мальчик. Мальчик был разодет не менее богато, чем сам король, и, хотя у него на голове в настоящий момент не было короны, Михаэль догадался, что видит принца Виллибальда Христофора Фридриха Амадея.
- Здравствуйте, Ваше Высочество, - сказал Михаэль.
- Ты должен звать меня братом, - ответил принц Виллибальд. - Чтобы эльфрины не догадались, что ты не родной сын моего отца.
- Какие эльфрины? - удивился Михаэль.
- Злые, страшные эльфрины, - ответил принц. - Дракон ест девочек, а эльфрины - мальчиков. Они хотели съесть меня, но отец решил отдать эльфринам тебя...
- Вилльхен, что ты там говоришь? - обернулся король.
- Я не хочу к эльфринам! - закричал Михаэль. - Отпустите меня! Мне страшно!
Конечно, Михаэля никуда не отпустили. Король строго отчитал принца Виллибальда за то, что он пугает своего нового братика, а потом объяснил зарёванному Михаэлю, что эльфрины совсем не страшные, никого они не едят.
- Они просто хотели пригласить к себе в гости царского сына, - говорил король, - но Вилльхен не может поехать, ведь он - наследник престола, и ему не до развлечений...
- Ну кто тебя за язык тянул?! - шепнул он принцу Виллибальду, когда Михаэля уводили из тронного зала.

Столица и её окрестности бурлили от нетерпения. Вместо того чтобы заниматься обычными делами, люди собирались кучками там и сям и обсуждали новости.
- Значит, король уже позвал их?
- Повезло-то как! Не моего сыночка встретила за воротами проклятая карета!..
- Говорят, они такие страшные, что дракон сдохнет, как только их увидит!
- Что за напасть?! То дракон, то теперь ещё эти чудовища...
- А когда они приедут?
- А вдруг они уже приехали? Я слыхал, они могут делаться невидимыми.
Стоят сейчас и слушают, что мы про них болтаем.
- Ай! Где?!
- Господи, а я их - чудовищами!..
Страх делал лентяек и бездельников еще более любопытными. Какие бы ужасы ни говорились о таинственных эльфринах, каждый житель города скорее бы умер, чем отказался посмотреть на них хотя бы одним глазком. Настроение в городе было скорее праздничное, нежели печальное, несмотря на приказ короля, который повелевал всем подданным облечься в глубокий траур.
- Пусть эльфрины видят, как мы горюем по принцу Михаэлю, - сказал король. - Ибо если мы будем веселы и беспечны, у них могут возникнуть подозрения...
Наконец условленный день настал. С раннего утра горожане попрятались в своих домах. Крепко заперев двери и ставни, они приникли жадными глазами к замочным скважинам и оконным щёлкам. Лишь самые отпетые сорванцы побились об заклад, что они первыми встретят эльфринов, и залегли в кустах у Главной дороги, в траве у городских стен и в тени за городскими воротами. У дозорных на стенах от пристального внимания слезились глаза.
Весьма удивительно, что при такой всеобщей бдительности приезд отряда Небесных Воинов горожане всё-таки проворонили.
Кто-то на одно мгновение отвернулся от замочной скважины - и увидал лишь хвост последнего коня. Кто-то заметил на стене противоположного дома тень воина в высоком шлеме - и случайно упал с табуретки. Сорванцы в кустах у дороги, в траве у стены и в тени за воротами заигрались в кости, а когда услыхали стук копыт и подняли головы, отряд уже скрылся из вида. Дозорные протёрли слезящиеся глаза - а отряд уже въезжал на площадь перед королевским дворцом.
А король сидел на троне и ждал, когда дозорные сообщат ему о том, что эльфрины подъезжают к городу. Вместе с королём в тронном зале находились принц Виллибальд, принц Михаэль, принцесса и все придворные.
Все сидели и молчали. В огромном зале царила такая тишина, что можно было бы услышать, как пролетит муха, если бы старательные слуги давным-давно всех мух во дворце не перебили. И зря. Молчание без единого звука было невыносимым. Михаэль не выдержал, встал и подошел к окну. Уткнувшись лбом в прохладное стекло, он стал смотреть наружу.
«Какие красивые солдаты у нашего короля! - подумал мальчик, глядя на вереницу всадников, проезжавшую под окнами.
- Тот, что впереди, и сам одет как король, и лошадь его покрыта золотой попоной. Ах, какая лошадь! Вороная, в белых чулочках и с белой мордой - сразу видно, добрая лошадка. Горячая, но добрая...»
Тут всадник, похожий на короля, поднял голову и посмотрел прямо в окно, у которого стоял Михаэль. У всадника было такое весёлое лицо, что мальчик невольно улыбнулся. А всадник помахал ему рукой.
Ехавшие следом два воина, увидав, что командир кому-то машет, обернулись тоже. От их улыбок Михаэлю стало так радостно, что он чуть не рассмеялся.
Следующие двое всадников уже не поражали взгляд роскошью одеяний, и попоны их лошадей были вышиты не золотом, а серебром. Но в их глазах сиял свет утренней зари, хотя и утро, и полдень уже миновали.
Всё новые и новые всадники проезжали перед Михаэлем, и его сердце билось всё горячее. Следом за офицерами ехали простые солдаты. Они не махали принцу рукой, но их взоры были полны столь пламенного привета, что Михаэль жмурился, как котёнок на солнцепёке.
Последними ехали новобранцы. Они почтительно склоняли головы перед названым принцем. Они не поднимали глаз на окно, и Михаэль был этому рад: его восторг и так был уже слишком велик и не помещался внутри, а лился наружу слезами счастья.
Замыкал колонну бедно одетый юноша на белой крестьянской лошадке. Сначала Михаэлю показалось, что у него даже нет оружия.
«Только из деревни, прямо как я!» - подумал мальчик, и его сердце сжалось от умиления: таким родным показался ему юный новобранец.
Михаэлю страстно захотелось увидеть его лицо.
«Я тут! Посмотри на меня!» - мысленно умолял его Михаэль, но скромный юноша проехал мимо, так и не подняв светлой, как лён, головы.
Михаэль смотрел ему вслед, всё сильнее прижимаясь к стеклу... и тут в тронный зал, гремя железом, влетел стражник с выпученными глазами.
- Они здесь! - крикнул он, позабыв какие бы то ни было правила придворного этикета.
- Кто?! Что?! Как?! - вскочил с трона король.
А они уже входили в зал. Впереди - в высоком шлеме, бархатном плаще и драгоценных доспехах - предводитель, тот самый, похожий на короля. За ним еще двое, и еще, и еще... Последним в зал вошёл светловолосый юноша и смиренно остановился у самых дверей.
- Эльфрины! - завопил, не помня себя, король и бросился вон из зала.
За ним, потеряв от страха голову и теряя по дороге кошельки и туфли, устремились придворные. К счастью, обошлось без давки: дверей в зале, кроме той, через которую вошли эльфрины, было предостаточно. В конце концов, перед Небесными Воинами остался стоять один Михаэль.
- Куда это они все убежали? - весело спросил предводитель эльфринов, скидывая роскошный плащ и отдавая шлем одному из офицеров.
Голос у Небесного Воина был бодрый и звонкий, как боевая труба. Он тряхнул головой, рассыпая по плечам каштановые кудри, и уселся в кресло, которое поднесли ему двое солдат.
- Садитесь, мой принц, - предложил он Михаэлю, и мальчик обнаружил, что позади него уже стоит точно такое же кресло.
- Неужели вы и есть эльфрины? - недоверчиво спросил Михаэль. - А все говорили, что вы страшные...
- Ха-ха-ха! Конечно, мы страшные! - рассмеялся предводитель. - А ты как думал? Мы же воины!.. А ты, как вижу, нас не боишься?
- Нет, - признался Михаэль.
- Всё правильно, - кивнул эльфрин. - Ведь ты царский сын и наш следующий король.
- А сейчас кто у вас король? - спросил мальчик.
- Я, - улыбнулся эльфрин.
Конечно, Михаэль с самого начала так и подумал. Но без шлема и плаща предводитель эльфринов выглядел совсем иначе: человек как человек, и чудесного ничего в нём не было.
- Извините, Ваше Величество, - сказал Михаэль, поднимаясь с кресла, - я не знал...
- Сядь! - снова рассмеялся король эльфринов. - Какое я тебе Величество? Наше Величество - вон оно стоит...
Король махнул рукой, и, к великой радости Михаэля, юноша, стоявший у дверей, подошёл к своему повелителю и преклонил колено перед его креслом. Вот кто действительно был сказочным существом! На Михаэля он не взглянул, но мальчику показалось, что эльфрин видит его лучше всех, и знает, как лучшего друга, и думает о нём, как брат. Одна из его мыслей коснулась Михаэля легонько, как сквознячок - и в ней мальчик увидел себя: он сидел рядом с эльфрином и был счастлив, как никогда в жизни...
- Да, пожалуй, - согласился король эльфринов. - Я поручу принца тебе.
Тогда юноша поднялся и, подойдя к Михаэлю, преклонил колено уже перед ним. Достав из простых, ничем не украшенных ножен меч, он положил его у ног мальчика. Клинок сиял, словно отражая луч солнца. Хотя за окнами было пасмурно.
- Ты принимаешь нашу дружбу, принц Михаэль? - строго спросил король в наступившей тишине.
Коленопреклонённый эльфрин наконец-то поднял голову и взглянул на Михаэля. Вот, почему так сияет обнажённый меч! Он лишь отражает свет этого лица - такого кроткого и прекрасного. От взгляда чудесных глаз - глубоких и ласковых, как само небо, теплеет холодная сталь...
- Да! - вскочив с кресла, Михаэль бросился к прекрасному юноше и крепко обнял его...
И упал в океан света и радости. Михаэль скакал по золотым-золотым рассветным облакам, конь, послушный, как мысль, обгонял утренний ветер, и плащ, как крылья, реял за спиной мальчика, а султан шлема почти касался самых ярких, последних звёзд... У Михаэля закружилась голова...
упал в океан света и радости. Михаэль скакал по золотым-золотым рассветным облакам, конь, послушный, как мысль, обгонял утренний ветер, и плащ, как крылья, реял за спиной мальчика, а султан шлема почти касался самых ярких, последних звёзд... У Михаэля закружилась голова...
- Осторожнее! - донёсся словно издалека голос короля эльфринов, и мальчик очнулся.
Его новый друг стоял перед королём, смиренно выслушивая выговор.
- Потише мечтай, - строго говорил король. - Как знать, может быть, ничего этого не будет...
Король эльфринов печально вздохнул, но тотчас взял себя в руки.
- Ладно, господа, завтра в бой, а сегодня всем приказываю отдыхать. Вольно, разойдись!..
... На рассвете тронный зал осторожно прокрались двое королевских шпионов. Они хотели выяснить, что поделывают эльфрины. Но когда шпионы проникли в зал, там никого не оказалось. Только в одном из кресел, свернувшись клубочком и счастливо улыбаясь, сладко спал принц Михаэль.
- Напугали до полусмерти, а потом исчезли, как призраки! - с досадой говорил король. - Вот вам и Небесные Воины! Может быть, они струсили и сбежали?
Напугали до полусмерти, а потом исчезли, как призраки! - с досадой говорил король. - Вот вам и Небесные Воины! Может быть, они струсили и сбежали?
- Нет! - воскликнул принц Михаэль, с трудом протолкавшись к трону сквозь толпу придворных. - Они уехали сражаться с драконом!..
Мальчик замолчал. Его сердце тоскливо сжалось.
- Хм, хотелось бы верить, что ты говоришь правду! - пробормотал король.
В тот же миг в зал вбежал запыхавшийся дозорный.
- Простите, Ваше Величество, - проговорил он, с трудом переводя дух. - Но там такое творится!..
Словно в подтверждение его слов, пол тронного зала вздрогнул, как от землетрясения. Впрочем, задрожал не только дворец: весь город заходил ходуном от подвалов до самых крыш, причиняя кучу неприятностей горожанам. Кто-то, собираясь спокойно позавтракать, только-только приготовил себе бутерброд - и с перепугу уронил его. Бутерброд, конечно же, упал маслом вниз. Кому-то горячий чай выплеснулся прямо на колени...
- Опять эти эльфрины! - недовольно вздохнули горожане. - Нашли время затевать сражение, ничего не скажешь!..
Поскольку завтрак всё равно был испорчен, все устремились на городские стены. Король со свитой направился туда же. Михаэля король взял с собой, а следом, тайком от отца и воспитателей, увязался принц Виллибальд.
Стоя на городской стене и глядя на клубящийся вдали чёрный дым, Михаэль цепенел от горя. Он не видел ни дракона, ни эльфринов, но, судя по тому, как содрогалась земля, бой был ужасен.
- А дракон-то наш - крепкий орешек! - неожиданно сказал король, опуская подзорную трубу. - Сколько они уже с ним возятся!..
Придворные, уловив королевское настроение, с готовностью захихикали. Они и сами радовались, что на грозных эльфринов нашлась управа. Ведь по милости этих чудовищ все они, от короля до последнего слуги, всю ночь протряслись от страха, забравшись под кровати...
Михаэль, услыхав смешки, вырвался из рук придворного воспитателя и бросился прочь.
Он выбежал за городские ворота и остановился в отчаянии на пустынной дороге. Нет, до поля боя ему не добежать. Придется стоять здесь, терзаясь страхом за друзей... Неужели дракон и впрямь так силён, как говорят люди на стене?! В таком случае дело плохо: ведь Небесные Воины никогда не отступают. А значит, они погибнут все - и весёлый красавец король, и его верные офицеры, и простые солдаты, чьи глубокие глаза сверкают, как звёзды, и...
- Нет! Нет! Нет! - закричал Михаэль, падая на колени. - Он не может умереть! Он обещал, что мы никогда не расстанемся!..
Весь вчерашний вечер его новый друг эльфрин рассказывал мальчику о будущем, о таинственной и прекрасной жизни. Эльфрин не мог сдержать своей радости за Михаэля, и мальчику казалось, что даже воздух вокруг него искрится от счастья. Король с улыбкой поглядывал в их сторону. Лишь один раз повелитель эльфринов не удержался от замечания - когда прекрасный друг Михаэля словно нехотя упомянул о подвигах, которые, впрочем, не так трудны, как кажутся...
- Вы не больно-то его слушайте, Ваше Высочество, - сказал король, отозвав мальчика в сторонку. - Не то, чтобы он обманывал вас - Небесные Воины всегда говорят правду. Просто ему самому уже никакой подвиг не труден и никакой труд не страшен. Но поначалу всем бывает нелегко. Жизнь у нас суровая - всё-таки мы на войне...
- С вами мне не страшно, - сказал мальчик. - Я теперь, наверно, по-другому жить и не смогу...
Король внимательно посмотрел на него.
- Запомни свои слова, принц Михаэль, - сказал он.

«Я помню свои слова! - клялся Михаэль, глядя сквозь слёзы на пустую дорогу. - Я не хочу остаться один! Вернитесь, пожалуйста!..»
Земля вздрогнула в последний раз и... успокоилась. Чёрный дым за горизонтом посерел, потом побелел и растаял. Далеко-далеко впереди на пустой дороге показались всадники...
Михаэль бросился вперед. С каждым шагом он всё лучше видел приближающийся отряд. Видно, что воины смертельно устали, многие, должно быть, ранены - еле держатся верхом... Михаэль остановился, как вкопанный. Одна лошадь шла без всадника - вороная лошадь с белой мордой. Бархатный плащ был перекинут через пустое седло.
Отряд остановился.
- Доброе утро, мой принц, - сказал один из старших офицеров, и Михаэль встрепенулся: это был голос короля!.. Бывшего короля.
- Не узнал? - спросил он.
Михаэль молча помотал головой. Бывший король действительно сильно изменился. И глаза, и улыбка - всё стало иным. Вот теперь он, хотя и немножко, но всё-таки стал походить на эльфрина.
- Я очень боялся, - промолвил бывший король. - Это была моя первая битва. Но, к счастью, я выдержал. Теперь я не король, а герцог. Надеюсь, когда-нибудь мне удастся стать простым солдатом.
Михаэль ничего не понимал.
- У нас всё по-другому, - объяснил герцог. - Тому, кто сильнее всех, уже не нужны все эти игрушки...
Герцог развёл руками, показывая на золочёные доспехи и меч в драгоценных ножнах.
- Но стать святым сразу нельзя, - добавил он. - А так хочется поскорее оказаться там, среди последних, которые на самом деле - первые...
Михаэль посмотрел в конец отряда... и его сердце упало. Своего друга он не увидел. На белой лошадке ехал другой эльфрин.
- А где же... - начал было Михаэль, но договорить не смог, потому что ему всё стало ясно.
- Не хочу! - прошептал он, садясь прямо на дорогу. - Не хочу...
«Он сказал, что мы никогда не расстанемся! - подумал мальчик. - Он обманывал...»
- Эльфрины не лгут, - строго проговорил герцог. - Ты же знаешь, что смерть - это не конец. Тем более смерть в бою...
- Нет... - повторил Михаэль.
«Так нечестно. Он был самым лучшим. Пускай бы погиб другой...»
- Да, он был лучшим, - сказал герцог. - И справиться с вашим драконом мог только он.
- Неправда...
- Михаэль, - герцог грустно покачал головой, - твоим другом он был всего полдня, а мы лишились брата. Чья скорбь сильнее?
- Что-то я не вижу, что вы скорбите!
- И не увидишь! Тебе не дано заглядывать в наши сердца, если мы того не хотим. Твоя же душа обнажена перед нами, я вижу в ней не только скорбь, но и упрямство. Ты думал, что всё будет так, как ты себе представлял, а вышло иначе. Ты отступаешь перед первой же трудностью. А что будет дальше?
В глубине души Михаэль чувствовал, что герцог прав, но признаться в этом... о нет! Это было невозможно! И он растравлял свою рану, как мог.
- Где вы его похоронили? - плача злыми слезами, спросил мальчик.
- Мы не хороним павших...
- Значит, вы его оставили... на корм воронам... какие вы жестокие!.. Значит, вы просто притворялись добрыми, а на самом деле, вы... Вы ужасные бессердечные создания!..
Михаэль и сам чувствовал, что его несёт совсем не в нужную сторону, но остановиться не мог.
Герцог выпрямился в седле, подбирая поводья.
- Оставим разговоры, - устало промолвил он. - Принц Михаэль, ты едешь с нами?
- Помилуйте, господин! - на дорогу, откуда ни возьмись, выбежали родители Михаэля. - Сжальтесь над бедными людьми! Этот мальчик вовсе не царский сын! Король обманул вас!..
- Михаэль, ты едешь? - словно не услышав, повторил герцог.
- Не поеду! - упёрся мальчик;
«Вот если бы он заставил меня поехать» - подумалось ему.
Герцог лишь тяжко вздохнул.
- Мы никого не заставляем, - сказал он. - Мы не можем лишить тебя права выбора. Так что, Михаэль, ты едешь или нет?
Михаэль уже раскаялся и хотел сказать «да», но губы шепнули еле слышно:
- Нет!.. - и тотчас же он понял, что этот миг был последним...
Герцог посмотрел на него непередаваемо скорбным взглядом.
- Горе этому мальчику, - сказал он. - Горе этому городу. Горе королю, пытавшемуся обмануть эльфринов.
От его негромкого печального голоса вздрогнула земля. Родители Михаэля, полумёртвые от страха, повалились ниц. Даже Михаэль зажмурился... А когда открыл глаза, на дороге перед ним никого не было.
Когда Михаэль вернулся в свой ветхий домишко, его бабушка заплакала от счастья.
- Живой-здоровый! - всплеснула она руками. - А чего ещё-то желать благоразумному человеку?
Под старость она почти ослепла и не увидела, какое расстроенное лицо было у внука.
А город тем временем готовился к празднику. Улицы украшались цветами, на кухнях готовилось угощение, на дворцовой площади устанавливали машины для фейерверка. В домах царила суматоха: женщины сбивались с ног, стараясь одеться понаряднее, ведь такого торжества город ещё не видел. Шутка ли - от дракона избавились!.. Мужья сбежали от греха подальше и попрятались в винных погребах. К вечеру каждый из них был уверен, что дракона победил именно он, а эльфрины всем только приснились.
Праздник начался в сумерках. Небо зажглось разноцветными сполохами, музыка загремела на всю округу. Сначала из дома сбежали сёстры Михаэля, следом отправились братья. Наконец и папа с мамой тоже решили прогуляться. Дома осталась только старая бабушка, которая была не только подслеповата, но и слышала неважно. Шум праздника не мешал ей тихонько дремать в уголке у очага.
А Михаэль пытался заснуть и не мог. Стоило ему закрыть глаза, как перед ним появлялся герцог эльфринов. И сердце мальчика снова и снова вздрагивало от грозных слов и грустного взгляда... Михаэль не выдержал, встал с постели и вышел на крыльцо.
Праздник был в самом разгаре. Фейерверки сверкали, музыка гремела, изредка с городских стен бабахал салют... А с дальних холмов дул печальный, холодный ночной ветер.
«Они предупреждали, что я уже не смогу жить так, как раньше», - с безнадёжной тоской подумал Михаэль.
«Да нет, это же я сам сказал!..» - вспомнил он.
Мальчик сел на крыльцо и заплакал. Заплакал, как взрослый - понимая, что от слёз легче не станет, и следом за горем уже не придёт радость. Он упустил свой праздник. Так, приткнувшись к дверному косяку, он и задремал.
И во сне он увидел его. Его друг эльфрин был жестоко изранен, но та боль, что жила в его взоре, была стократ тяжелее, чем боль от ран.
- Что же ты наделал, Михаэль! - чуть слышно проговорил воин. - Что же ты наделал!..
- Я теперь проклят, да? - с замиранием сердца спросил мальчик.
- Проклят? Но мы никого не проклинаем!
- Но герцог сказал «горе этому мальчику»!
- Ты мог стать Ангелом, но не стал им.
- Ещё он сказал «горе этому городу», а город веселится и празднует...
- Не до праздника ему будет в день Последней Битвы, когда у него не будет защитника.
- Ещё было сказано «горе королю»!..
- Чужие грехи пусть тебя не касаются.
- Мы с тобой больше не увидимся, да?.. - упавшим голосом произнёс мальчик.
- Я никогда тебя не оставлю, - ответил эльфрин, - ведь наш король отдал тебя мне. А вот увидишь ли меня ты, узнаешь ли...
Голос эльфрина звучал всё тише и тише, и сам он таял, как утренний туман. Михаэль бросился к нему... и проснулся.
Была уже глубокая ночь. Михаэль совсем озяб и вернулся в дом.

До утра веселился освобожденный город. До утра проплакал в подушку принц Михаэль.
Но вот утро настало. Праздник кончился, и народ возвратился к своим ежедневным заботам. Михаэлю тоже пришлось встать и пойти в лес за хворостом, как обычно.
А когда он шёл назад, он снова увидел королевскую карету. Карета свернула с дороги в сторону его дома. Михаэль бросил свой хворост и побежал следом.
Карета действительно остановилась около его дома. Михаэль видел, как из кареты вылез нарядный придворный и вошёл в дом. Когда же мальчик наконец добежал до дома, придворный уже вернулся в карету и велел трогать. На Михаэля он даже не взглянул.
Михаэль вошёл в дом и по лицам домочадцев понял, что случилось нечто очень важное. У Михаэля промелькнула мысль, заставив его колотящееся после бега сердце забиться ещё сильнее: мальчик подумал, что эльфрины вернулись...
- А вот и Мильхен! - воскликнул отец, - Вот и наш кормилец!
Почему-то Михаэлю показалось, что отец сердится на него. Из-за чего? Ах да, он же не принёс ни веточки хвороста!
- Я оставил хворост у дороги, - сказал мальчик, - я сейчас за ним схожу!
- Нет, сынок! Никакого больше хвороста тебе носить не придётся! - улыбнулся отец. - И матери больше не придётся полоть сорняки и крапиву! И сёстрам и братьям не нужно больше трудиться в поте лица! Смотри, что привёз нам первый министр Его Величества!
С этими словами отец открыл лежащий на столе кошель, который Михаэль сначала не заметил. На стол заструился поток золотых монет.
- Король наградил тебя за помощь, - объяснил отец. - Ещё он подарил нам дом в городе с мебелью и прислугой, так что мы сегодня же переезжаем в новое жилище!
В доме поднялась суматоха. Все кое-как подкрепились (отец сказал, что они в последний раз едят чёрствый хлеб без масла) и начали перебирать вещи, которые будут нужны в новом доме. Таких вещей почти не оказалось, даже праздничные платья сестер, бережно хранившиеся в сундуках, уже не казались никому нарядными. Отец запряг в хорошую крепкую телегу немолодую уже лошадку, добрую свою помощницу, но и лошадка и телега в свете золотых монет выглядели убого. Отец решил продать их на ближайшей ярмарке, а пока делать нечего - пришлось ехать на том, что есть.
Городской дом показался новосёлам просто сказочным дворцом. Поначалу все чувствовали себя как гости и стеснялись своей более чем скромной одежды: слуги были одеты куда лучше. Пришлось потерпеть, пока портные шили новые платья, плащи, камзолы и всё прочее. Впрочем, ждать пришлось недолго: портные получили двойную плату за срочность заказа.
Так для семьи Михаэля началась новая жизнь. Сестёр посадили за пяльцы и клавесин, мать распоряжалась по хозяйству (из неё получилась строгая домовладелица, слуги боялись попадаться ей под руку). Мальчиков отец отдал в школу, а сам занялся торговлей. Торговал он удачно, и вскоре сделался одним из самых богатых людей в королевстве. Потом к тому же делу он определил выросших сыновей; Михаэль, достигнув двадцатилетнего возраста, стал торговцем лошадьми.
Это занятие было ему по душе. Во-первых, он любил лошадей, во-вторых, ему приходилось много путешествовать. В отличие от прочих купцов, ему нравились путешествия. Михаэля неудержимо тянуло за горизонт. Ему казалось, что он вот-вот заглянет куда-то, где раскрываются все тайны и разрешаются все загадки бытия. Но каждый раз его постигало разочарование. Чужие города только издали напоминали сказочные замки, а стоило подойти поближе - вся таинственность и прелесть рассеивалась без следа. Впрочем, Михаэль вырос достаточно практичным человеком, чтобы сильно не расстраиваться из-за этого.
Вскоре отец и сыновья были представлены ко двору государя и получили звания Поставщиков Его Величества. То была великая честь и ответственность. Отец поставлял королю вина, сыновья - кто приправы и пряности, кто сладости, кто шёлк и бархат. А Михаэль сделался главным конюшим короля.
Теперь не он ездил за товаром, а сам товар шёл к нему, и из сотен прекрасных лошадей он выбирал прекраснейших, так что королевская конюшня не имела себе равных.
Но сам король не интересовался этой стороной своего богатства. Лошадей он покупал не для себя, а для своего сына Виллибальда, который с детства увлёкся лошадьми. Однажды, проходя по конюшне и осматривая её драгоценных обитателей, принц Виллибальд вздохнул:
- Хороши эти лошади, но нет среди них ни одной достойной меня!
- Но на таких лошадях ездят только короли или султаны! - почтительно поклонился Михаэль.
- А я хочу такую же, как у эльфринов! Ведь вы помните, какие у них были лошади?
- Да, что-то я такое припоминаю, - кивнул Михаэль, - словно это был сон или сказка...
- Словом, найдите мне такую лошадь! - сказал принц Виллибальд. - А пока не найдёте, не смейте показываться мне на глаза.
И пришлось Михаэлю снова отправляться в путь. Стараясь угодить принцу, он снова и снова пытался припомнить эльфринов и их лошадей. И память его оживала, оживала и его тоска, от которой плакал он в детстве и которую пытался забыть в юности. И однажды на корабле ему приснился сон: он увидел своего бывшего друга-эльфрина. Эльфрин лежал на выжженной драконьим пламенем земле, израненный, умирающий, и просил: «Михаэль, услышь меня! Вспомни меня!»
Михаэль проснулся в своей каюте, и подушка его была мокрой от слёз, а корабль уже пристал к берегу.
Михаэль уже не раз был в этом городе, ибо в этой столице степного княжества кони были самых чистых кровей. Сойдя с корабля, он отправился прямо на конный базар.
Каких только лошадей тут не было! Михаэль уже три часа бродил по базару, отмахиваясь от назойливых продавцов. Он устал и страшно хотел пить - жара стояла нешуточная. Похоже, нужной лошади тут нет...
Михаэль решил вернуться на корабль. Он прикидывал в уме, сколько стран ему ещё нужно объездить, и думал, в какую ехать сначала, как вдруг кто-то дёрнул его за рукав.
- Хотите посмотреть мою лошадку?
Михаэль обернулся. Перед ним стоял горбатый старичок.
- Здесь недалеко...
Усталый Михаэль покорно разрешил отвести себя к шатрам на окраине базара. Там старичок сначала дал ему воды, а потом уже пригласил в шатёр. В шатре стоял конь... Сердце у Михаэля подпрыгнуло и забилось часто, словно от бега. Он узнал его, узнал коня короля эльфринов! Вороного, в белых чулках и с белой мордой, с горящими глазами, с воздушной гривой и пышным хвостом - впрочем, все слова меркли перед его красотой. Михаэль чуть не заплакал.
- Хорош конь? Стрелу обгоняет! Огонь, а не жеребец! Для тебя держал, никому не показывал! На него все короли и принцы зарились, а я тебе продам! - расхваливал свой товар старичок, и загнул такую цену, что у Михаэля глаза полезли на лоб.
- Так я же не только коня тебе продаю! - сказал старик. - Я тебе его вместе с конюхом продаю! Эй, где ты там, бездельник!
В шатер зашёл юноша лет шестнадцати и, поклонившись, застыл с опущенной головой.
- Да не нужен мне конюх! - сказал Михаэль, рассматривая светлую льняную макушку. - Будто нам во дворце конюхов не хватает!
- Так ведь с этим конём не каждый поладит! - гнул своё продавец. - А мальчишка ловкий, хоть на конюшне, хоть где работать сможет!
- Ладно, я согласен, - махнул рукой Михаэль.
Принц Виллибальд был доволен. Он щедро наградил Михаэля и, горя нетерпением, велел немедленно седлать красавца коня.
- Мой господин! - вдруг заговорил юноша-раб, обращаясь к принцу. - Вам нельзя садиться на этого коня! Этого коня купил вот этот господин!
Юноша показал на Михаэля. Принц рассмеялся.
- А это существо, оказывается, говорящее! Забавно! Я-то думал, что это палка от метлы!
Конюхи принесли нарядное седло с драгоценной уздечкой и попытались было надеть всё это на коня, но он встал на дыбы, не давая к себе прикоснуться.
- Что вы там возитесь? - рявкнул принц. - Вы что, никогда лошадей не видели?!
- Позвольте мне, господин, - сказал юноша.
Он вошёл к разъяренному коню, и тот мгновенно присмирел. Юноша спокойно надел на него седло и уздечку и вывел из стойла.
- Вам всё равно нельзя садиться на него, мой господин, - повторил он. - Это конь короля эльфринов!
Но принц вытянул раба хлыстом и взлетел на коня. Конь заржал, заплясал на месте и вдруг рванулся к воротам конюшни, которые, на счастье, были открыты.
- Откуда ты знаешь про эльфринов? - спросил Михаэль.
- Слышал от людей, - ответил юноша, глядя в землю.
С тем они и расстались. Михаэль пошёл домой (у него, как у всех братьев, уже имелся собственный дом), поужинал и уже готовился отойти ко сну, как в его двери громко постучали.
- Именем короля! Откройте!
Перепуганная служанка бросилась открывать. За дверью стояли стражники.
- Иоганн Теодор Георг Михаэль! Вас приказано немедленно доставить во дворец Его Величества!
- Что-то случилось? - спросил Михаэль, снимая домашний халат.
- Случилось, - мрачно отозвался стражник. - Лошадь, которую вы купили, убила принца Виллибальда и ускакала неведомо куда.
Во дворце царил полный переполох. Бегали слуги, служанки громко плакали, доктора хранили невозмутимый вид. Стражник немного преувеличил новость: принц Виллибальд не погиб, но был недалеко от смерти.
Михаэля отвели в покои старого короля.
- Что вы наделали! - закричал король, едва увидал Михаэля. - Что за чёрта вы купили моему бедному мальчику?!
Бедному мальчику было уже за тридцать, как и Михаэлю.
- Государь, но принц желал иметь коня такого же, как у эльфринов...
- Ах, они всё-таки дотянулись до моего сына! Проклятые эльфрины! Горе мне, горе! Ступайте прочь с глаз моих! И лучше вам больше не появляться в моём городе!
Михаэль поклонился королю и отправился домой - надо было готовиться к отъезду.
Странно, но на городских улицах в этот поздний час было полным-полно народу. Михаэль сначала удивился, а потом всё понял. Горожане стояли кучками и горячо обсуждали новость: принц Виллибальд убился, упав с лошади.
- Принц ещё ни разу не падал!
- Но эта, говорят, зверюга страшная!
- Говорят, она огнём дышит!
- И может перескочить городскую стену!
- А хозяин её - бес из преисподней!
- Да, страшный, чёрный, как эфиоп!
- Король его сразу в темницу велел. Нешуточное ж дело, не на кого-нибудь, на наследника покусился.
- Когда его казнить-то будут, не знаете?
- Король велел завтра!
- И в самом деле... Чего тянуть-то?
Михаэль понимал, что самое умное сейчас - это поскорее собрать вещички поценнее и убраться из города подальше. Глядишь, одной казнью король не утешится… И наоборот, самое глупое - делать то, что пришло ему в голову.
- Чем могу служить? - спросил Михаэля старший тюремщик.
- Мне... того, который... чья лошадь вчера... - пробормотал, смущаясь, Михаэль.
- Нет, к нему мы не пускаем, - сказал тюремщик, - а зачем вам его видеть, позвольте полюбопытствовать?
Михаэль замешкался - он не успел придумать благовидного предлога. И потому сказал правду. По крайней мере, большую ее часть:
- Понимаете, я вроде как виноват перед ним. Это ведь из-за меня он тут оказался, в нашем королевстве. Я купил для принца коня... вместе с конюхом. Ну и мне хочется... чтобы ему было сейчас не так одиноко. - Он не стал говорить про то, что слова юноши об эльфринах не давали ему покоя. Вместо этого спросил:
- Это ведь правда, что его... завтра?
- Да, на рассвете. Зрелище будет хорошее, - довольно улыбнулся тюремщик.
- Значит, мне нельзя с ним поговорить? - печально вздохнул Михаэль,
- К сожалению. Вот если бы вы тоже были арестованы...
- Так арестуйте меня! - попросил Михаэль, кладя на стол тюремщика туго набитый кошелек.
- Скажите, вы... как бы это выразиться... в своём уме? - после недолгого молчания поинтересовался тюремщик.
- Абсолютно! - Михаэль и сам весьма в этом сомневался, но заставил свой дрожащий голос звучать как можно увереннее.
- И за что же мне вас арестовывать? - спросил тюремщик.
- За попытку дачи взятки должностному лицу, - предложил Михаэль.
- Гм... Ну ладно, пойдёмте, воля ваша, - сказал, пряча кошелёк и поднимаясь из-за стола, тюремщик. - Сами понимаете, детишек кормить надо... Вам кандалы надевать или как?..
Вскоре Михаэль очутился в камере-клетке, всё убранство которой состояло из двух охапок соломы. Ему принесли кусок черствого хлеба и кружку воды.
Михаэль осторожно присел на солому. Напротив него ничком лежал жестоко избитый паренёк. Кажется, он был без сознания. Или спал.
- Воды! - вдруг проговорил он.
Михаэль взял свою кружку, подошёл к бедняге и помог ему приподняться. Юноша выпил воду и, выронив кружку, бессильно повис на руках Михаэля.
- Здравствуй, Михаэль, - сказал он.
- Откуда ты меня знаешь? - удивился Михаэль.
- А ты... разве не узнаёшь меня?
Михаэль, задрожав от волнения, всмотрелся в бледное лицо, и сквозь ничем не примечательную внешность ему на мгновение блеснул иной лик.
- Это ты! - воскликнул Михаэль.
Эльфрин слабо улыбнулся.
- Я боялся, что ты испугаешься, не придёшь, - сказал он. - А теперь всё в порядке, ты победил себя...
- Ну... кажется, мне немного помогли, - признался Михаэль.
Михаэль взял свою солому и перебрался к изголовью эльфрина. Час проходил за часом, а друзья всё не могли наговориться. Вернее, говорил по большей части Михаэль. Он рассказал другу обо всём, что испытал за эти десять с лишним лет, позабыв, что друг его всё знает. Но эльфрин всё равно внимательно слушал его и иногда тихо плакал.
- ...и все эти годы мне было так грустно, так одиноко, - вздохнул Михаэль.
- Я знаю, - ответил эльфрин. - Это моя печаль жила в твоем сердце.
- ...я чувствовал себя чужим в этом мире...
- Это мы не давали миру завладеть тобой, Михаэль, я и мои братья по оружию. Все эти годы мы сражались за твою душу. Первого испытания ты не выдержал, когда был ребёнком. Второе испытание ждёт тебя завтра, Михаэль, и оно намного труднее, чем то, первое. Но если ты не выдержишь и откажешься от него, третье испытание, ждущее тебя в старости, будет ещё тяжелей.
...Давно уже стояла глубокая ночь. Михаэль сидел на соломе около своего друга и смотрел сквозь зарешёченное оконце на яркие зимние звезды.
- Я должен проститься с тобой, Михаэль, - тихо сказал эльфрин. - Плоть была дана мне ненадолго, к утру она истает... ничьи глаза больше не увидят меня. Тебе надо уходить отсюда. Представь, что будет, когда завтра утром тебя найдут здесь одного.
Михаэль молчал. Да, самое умное было постучать в дверь, позвать тюремщика и сказать, что осознал, сколь преступно давать взятки должностным лицам, что эту вину можно искупить разве что штрафом... за которым надо сходить домой.
Тюремщик добрый человек, несмотря на свою жадность. Он еще не знает, что ждет его завтра, когда узника в камере не окажется. Решат, что помог преступнику бежать - а по закону это кончится для бедняги эшафотом. Стоило ли его, Михаэля, спасение такой цены? Как потом жить, все время помня?..
- Ну что ж, - собрав всё своё мужество, ответил Михаэль. - Мне придется заменить тебя.
- Ты твердо решил? - спросил эльфрин. Он не спрашивал у Михаэля, что и почему. Видать, и так понял.
- Да. Ты однажды умер за меня... за всех нас. Теперь мой черёд. Всё правильно...
Друзья помолчали.
- А ты ведь до сих пор не знаешь, что я вовсе не царский сын, - сказал Михаэль.
Эльфрин слегка повернул голову и посмотрел на Михаэля. Слабая улыбка озарила его лицо.
- Я знаю, что первым человеком на дороге кареты был ты, царский сын. Ты нёс вязанку хвороста.
- Вот видишь, никакой я не царский! Разве царские дети собирают хворост в лесу?
Эльфрин закрыл глаза и сжал руку Михаэля.
- С тех пор, как Царь Небесный родился у бедной Девы и зарабатывал Себе пропитание, трудясь плотником, такие мелочи не имеют никакого значения. И поэтому ты - царский сын, кем бы ты ни был, Михаэль.
- А умирать... это больно? - шёпотом спросил Михаэль.
- Думай о том, что ждёт тебя после...
И Михаэль снова увидел себя верхом на лошади, с мечом и шпорами, скачущим по дороге золотых рассветных облаков. Султан его шлема, казалось, касается последних звёзд, а конь, послушный, как мысль, обгоняет утренний ветер... Всю ночь ему снились светлые сны.
Проснулся Михаэль от крика старшего тюремщика.
- Куда он подевался?! Вчера ещё был здесь! Это какое-то колдовство!..
Ему отвечал раздраженный голос королевского чиновника:
- Да вы в своем уме? Всё уже готово, народ ждёт... Вы понимаете, что будет, если казнь сорвётся?! Сами полезете в петлю!..
- Не печальтесь, - сказал Михаэль, - я готов... готов умереть вместо него.
Тюремщик сначала не поверил собственным ушам, а потом, поверив, несказанно обрадовался.
- Если б все заключённые были такими, как вы! - умилённо проговорил он, утирая невольную слезу. - Тихими, скромными, самоотверженными... Не волнуйтесь, палач у нас опытный, вы и испугаться не успеете...
На площади яблоку негде было упасть. Толпа напирала, и конные гвардейцы с трудом сдерживали её. Михаэль смотрел вокруг затуманившимся взором и краем уха слышал, как судья зачитывает приговор.
- ... приговаривается к казни через повешение.
Михаэль уже терял сознание от страха, как к его лицу прикоснулось что-то холодное и влажное.
Судья удивился и замолчал. Площадь замерла. Зрение вернулось к Михаэлю, и он увидел, как на площадь и на эшафот, кружась, танцуя, падают... снежинки. Их становилось всё больше и больше. Люди изумлённо озирались. Лошади фыркали. Судья попытался смахнуть снег с приговора, но добился лишь того, что чернила размазались, и читать дальше стало невозможно.
Снег падал всё гуще. Поднялась метель.
- Что это такое? - удивлялись все. - Это чудо! Настоящее чудо!
А снег всё падал себе и падал. В грудь Михаэлю угодил крепко слепленный снежок, и следом раздался озорной мальчишечий смех.
А снегопад усиливался с каждой минутой. Вот уже и на эшафоте намело сугроб по колено, стало холодно. Толпа начала рассеиваться - или её просто не стало видно из-за снега?
В снежную бездну канули судья и палач; Михаэль остался один под мятущейся завесой снегопада. Впрочем, нет, не один. Кто-то высокий стоял рядом, в темном одеянии.
- Ну что ж, пора! - вздохнул непонятно откуда взявшийся незнакомец, подставляя ладони и лицо снегу. Капюшон упал с его головы.
- Ах! - удивился Михаэль: перед ним стоял Предводитель эльфринов.
Предводитель положил ему на плечо тяжёлую руку, и Михаэль почувствовал, как душа его наполняется светом и отвагой. Предводитель улыбнулся.
- Так ты едешь с нами, принц Михаэль?
К ночи снегопад закончился. А утром на городских клумбах и в цветочных горшках распустились прекрасные белые лилии. Учёные бросились изучать столь удивительное явление, но нисколько в этом не преуспели: очень скоро все лилии были сорваны горожанами, и особенно - горожанками, каждая из которых хотела заполучить хотя бы один цветок, чтобы украсить им причёску.
Лилии завяли, и город вернулся к своей обычной жизни: к труду и сплетням, к маленьким радостям и печалям. Ведь это был самый обычный город в обычном далёком королевстве. И жили там обычные люди, чья память не могла долго хранить ни бед, ни радостей. Забылся дракон, забылись и эльфрины.
Но в день Последней Битвы всё вспомнится. И люди поймут, что дракон завёлся у них не случайно, и пролитая за них кровь была дороже всего мира. И узнают, что у города есть защитник.
Иллюстрации Наталии Кондратовой
Наталья Ключарева. Юркино Рождество.
О том, что Кривовы спиваются, долгое время знал только их сын Юрка. Когда это началось, он ходил в первый класс. Поначалу Кривовы своей болезни стеснялись и пили исключительно вдвоем, запершись в прокуренной к вартире.
вартире.
Примостившись за шторой на подоконнике, Юрка кое-как сам готовил уроки, рисовал закорючки в прописях, учил под гудение пьяных родителей стихи про «лес, точно терем расписной», клеил аппликации из цветной бумаги... Поэтому в школе никто ни о чем не догадывался.
«Способности у Кривова, конечно, ниже средних. Но ничего, может, еще подтянется», - говорила на собраниях Юркина училка, рассеянно глядя на внимательные родительские лица и не зная, к которому из них обращается в данный момент.
Тетя Алена Кривова, когда-то учившаяся в этой же школе, стыдливо горбилась за последней партой и прятала глаза. На людей - включая даже Юркиных одноклассников - она уже тогда стала смотреть виновато и слегка заискивающе, как на свое магазинное начальство: не почует ли кто запах перегара.
Маленький Юрка выделялся из своих сверстников только тем, что никогда не спешил возвращаться домой. В любую погоду он стойко месил грязь на окрестных пустырях, мерил сапогами лужи, а если становилось совсем невмоготу - грелся в подвале, дрессируя бездомных кошек. Но и тут никто не заподозрил ничего неладного.
В середине ноября у Юрки появился товарищ, деливший с ним одинокие прогулки по задворкам микрорайона. Это был его одноклассник Герка, который жил в соседнем подъезде. Герка отличался необузданной фантазией, вдохновенно врал по каждому поводу и, захлебываясь, выливал на молчаливого Юрку целые ушаты невероятных историй об инопланетянах, индейцах и призраках.
Геркины родители в то время начали разводиться - с битьем посуды, криками и вызовами милиции. Так что и он не спешил из школы домой.
Как ни старались Кривовы скрыться от чужих глаз, но скоро по двору поползли слухи, смешки и кривотолки. А когда Юрка перешел в пятый класс, позор окончательно вылез наружу, как грязная рубаха из штанов.
Тетя Алена, уже превратившаяся в Кривиху, побито улыбаясь, побиралась у дверей гастронома, в котором больше не работала. А Кривой-батя спал в подъезде, свесившись головой со ступенек. Всегда почему-то этажом ниже своей квартиры, до которой ему не хватало сил добраться. Соседки подкармливали Юрку, заранее жалея завтрашнего детдомовца или колониста. Такие истории всегда заканчивались одинаково.
У Герки дома тоже все было по-прежнему кувырком. Его родители то разъезжались, то опять съезжались, а то вовсе уезжали мириться на Байкал, оставляя сына одного в разоренной квартире, похожей на поле битвы мифических титанов. Герка брызгал себе на вихры мамкиными духами и, кашляя, курил отцовские папиросы: ему казалось, что так он становится немного ближе к родителям.
За этим занятием его и застала железная леди микрорайона - инспекторша по делам несовершеннолетних Иванова, которую никто не знал по имени, но все, особенно дети, панически боялись. Накануне она нанесла угрожающий визит в соседний подъезд - к Кривовым.
В первый день зимних каникул, пришедшийся на католическое Рождество, Юрка оказался в гастрономе вместе с родителями. Он пришел за хлебом, а они - за бутылкой к празднику. В винный отдел, где когда-то она сама покрикивала из-за прилавка на бестолковых колдырей, Кривиха входить застеснялась, и они с Юркой молча топтались на крыльце, поджидая Кривого-батю.
Стоять рядом с матерью Юрке было тяжело и стыдно. Он отошел в сторону, уткнулся в празднично украшенную витрину магазина - и вдруг провалился в другой мир, похожий на бесконечные сказки, которыми тешил его и себя отчаянный фантазер Герка.
Это была всего лишь маленькая искусственная елка. Серебристые иголки из фольги нежно подрагивали от сквозняка, отбрасывая едва уловимые блики на серую вату, изображавшую снег. На одной из веток качался крошечный колокольчик, покрытый аляповатой грубой позолотой. Юрке почудилось, что даже сквозь стекло он слышит его кроткий жалобный голосок.
Он задохнулся от сокрушительного чувства, названия которому не знал. Ему почудилось, будто он бежит по волшебному лесу с серебряными деревьями. И изо всех сил старается в него поверить. Но горестный бубенчик плачет под самым сердцем, не давая забыть, что этому никогда не бывать…
За спиной виновато скрипнул снег, и в витрине отразилось опухшее лицо Кривихи.
- Елку хочешь, сынок? - надтреснутым голосом спросила она, и в горле у нее булькнули близкие пьяные слезы. - Купим. Завтра купим, не реви только.
Юрка зажмурился, сжался и - последним невероятным усилием - поверил.
- Такую же? - уточнил он, дыша в шарф, чтобы не чувствовать материнского перегара.
- Обещаю, - соврала Кривиха и, отвернувшись, неслышно заплакала.
Но прошел день, два, прогремел ракетами и пробками от шампанского Новый год, а Кривиха про елку так и не вспомнила. Юрка, никогда ничего не просивший у родителей, изменил своему обыкновению и деликатно намекнул на невыполненное обещание.
- Спиногрыз! Захребетник! - тут же, будто ждал, раскричался Кривой-батя. - Только и знает: дай да подай! В доме выпить нечего, а он елку затребовал! Видали!
Кривиха бессмысленно улыбалась, хлопала густо накрашенными ресницами и тыкала погнутой вилкой мимо пустой тарелки.
В Сочельник Кривовы, не просыхавшие с католического Рождества, послали Юрку в дальний круглосуточный ларек, дойти до которого сами уже не могли. Он вернулся через полчаса, продрогший до костей в своем демисезонном пальтишке. Попытался отпереть дверь и обнаружил, что она закрыта изнутри на задвижку. Юрка звонил, стучал, кричал, кидал в окно снежками - все было бесполезно: родители спали мертвецким сном. В замочную скважину был слышен надсадный храп Кривого-бати.
Сначала Юрка сидел на подоконнике в подъезде, глядя на кипящий под фонарем снег. Но когда на площадке стали собираться сердобольные соседки, костерившие «поганых алкашей» и наперебой зазывавшие его к себе, Юрка вскочил и выбежал на улицу.
«Наверно, у Герки заночует», - хором решили старушки и, успокоенные, разошлись по теплым квартирам. Но Герку на все каникулы забрала к себе бабушка с Кубани, а его родители выясняли отношения на лыжной турбазе далеко в горах.
Никто никогда не узнал, где провел эту ночь, бывшую, как всегда на Рождество, звездной и морозной, молчаливый пятиклассник Юрка Кривов в демисезонном пальто с оторванными пуговицами.
Наутро Кривиха, сотрясаемая крупной дрожью, дежурила у подъезда, спрашивая всех входивших и выходивших, не знают ли они, куда подевался ее Юрка, и по привычке стреляя мелочь. Потом на крыльцо осторожно выступил Кривой-батя, и они, трогательно поддерживая друг друга на скользкой тропинке, отправились в соседний двор, к родственникам-алкоголикам, у которых надеялись если не найти сына, то хотя бы похмелиться.
Чуть позже появился и Юрка. Он отпер дверь своим ключом, швырнул в угол пальто и шапку. Пошарил в чулане, на антресолях и, не обнаружив ничего, постучал к дяде Леше, инвалиду из квартиры напротив.
- Струмент нужен? Замок менять? - обрадовался дядя Леша. - Молодец! А то папаня собутыльникам ключи роздал - не дом, а проходной двор! Да, что говорить, повезло тебе, парень, с предками.
Струмент нужен? Замок менять? - обрадовался дядя Леша. - Молодец! А то папаня собутыльникам ключи роздал - не дом, а проходной двор! Да, что говорить, повезло тебе, парень, с предками.
- Не ваше дело! - вдруг огрызнулся Юрка и, как потом уверял дядя Леша, даже клацнул зубами, будто волчонок.
Дядя Леша попятился и поспешил закрыть за собой дверь, бормоча под нос:
- Ну, и молодежь пошла - химическая! Атомная! Слова не скажи - взрываются! Ишь ты, бешеная сопля! Песье семя! Оборотень!
До вечера Юрка упорно ковырялся с замком. Дядя Леша наблюдал за ним в глазок и злорадствовал, видя, что наглый малец делает «все неправильно». Однако неведомо как Юрка справился, хмуро вернул дяде Леше «струмент» и закрылся на все обороты.
Вскоре явились Кривовы. Они долго царапали новый замок ключом и вполголоса обзывали друг друга «забулдыгами», думая, что именно из-за дрожи в руках не могут попасть в скважину. Дядя Леша и оповещенная им соседка баба Фая каждый в своей квартире приникли к глазкам, оставив ради такого зрелища один - футбольный матч, а другая - любимый сериал.
Нетерпеливая баба Фая уже собиралась выйти и объяснить тугодумам Кривовым, в чем загвоздка, как Юрка глухо сказал из-за двери:
- Даже не пытайтесь - замок новый.
Баба Фая внутренне ахнула. Дядя Леша в волнении почесал живот под майкой.
- Так ты дома, стервец! - минуту подумав, сообразил Кривой-батя. - Живо отпирай!
- Не открою, - ответил Юркин голос.
Кривой бушевал добрый час. Так что даже баба Фая заскучала и отправилась глотнуть чайку да краем глаза глянуть в телевизор. Дядя Леша еще раньше присел на табуретку у двери и незаметно закемарил.
Когда баба Фая вернулась на свой наблюдательный пункт, то увидела, что выдохшийся сосед мрачно курит в углу, а переговоры ведет уже Кривиха.
- Что же, сынок, нам на улице ночевать? - плаксиво спрашивала она, прижимаясь лбом к двери.
- Я вчера ночевал, - отвечал с той стороны неумолимый Юрка, - и ничего.
- Так не пустишь, что ли? - недоумевала Кривиха. - Из дома гонишь?
- Не пущу. Вы квартиру пропьете.
- Не позорь ты нас! Открой!
- Сами себя опозорили - дальше некуда!
«Ну, времена! От горшка два вершка - а вон как с родителями разговаривает!» - изумилась баба Фая и даже посочувствовала своим беспутным соседям: от такого непочтения кто угодно запьет.
Тем временем Кривовы, наконец, осознали, что домой им сегодня не попасть, плюнули, покрыли сына площадными словами и ушли ночевать к родственникам.
Вернувшись с каникул, Герка нутром почуял всеобщую взбудораженность. Разряды сильного скандала висели в воздухе, и, казалось, даже волосы от них электризовались и вставали дыбом, а ладони, намагнитившись, липли одна к другой.
Герка моментально уловил, что в центре этого напряжения находится Юрка. И, еще не зная толком, что произошло, суеверно отсел за другую парту. На перемене, столкнувшись с Юркой нос к носу, он отвернулся и, насвистывая, принялся с интересом изучать прошлогоднюю стенгазету.
Он не мог объяснить, в чем дело. Это было инстинктивное истерическое желание никак не соприкасаться с тем болезненным, безымянным и жутким, что теперь нес в себе бывший друг.
Герка не хотел ничего знать. Но против воли прислушивался к тому, о чем судачили под окном соседки. Насупленной тенью останавливался за спинами одноклассников, обсуждавших все новые и новые подробности этой истории, на глазах превращавшейся в легенду.
- Чё вчера было! - шепелявил долговязый Колька Курицын из пятого «Б», живший в Юркином подъезде. - Кривой-батя туда с толпой дяханов приходил! В натуре дверь ломать хотели! А Юрик такой, раз - и на них с топором! И визжит! Как этот, как его, Брюс Ли, в натуре! Чё я, баба - врать-то?! Ща врежу! Соседи растащили, а то бы зарубил папашу, в натуре! А чё ему было бы? Самозащита, в натуре! Скостили бы по малолетке! А чё? Ну, или отмотал бы годок-другой, в натуре.
- Я его боюсь, Анна Игоревна! - плакалась их классная - длинная тощая математичка по прозвищу Бесконечность - завучу на пороге учительской. - А вы поговорите с ним! И поймете, что никакой он не ребенок! Такого расчетливого и бессердечного существа я в жизни не встречала! Я к нему по-хорошему, мол, Кривов, давай тебя помирим с родителями. А он смеется мне в лицо: «А когда они квартиру пропьют, вы меня к себе жить возьмете, да?». От него вся инспекция несовершеннолетних в шоке! Потребовал, чтобы родителей из квартиры выписали! А вы говорите - ребенок!
Все ждали, что Юрка сломается и пустит родителей обратно. И чем дольше этого не происходило, тем меньше сочувствовали ему окружающие. В то же время Кривиха с Кривым, которые на каждом углу сетовали на «изверга», вызывали уже всеобщую симпатию и чуть ли не одобрение.
Жили они, кочуя по многочисленным родственникам. Пили, жаловались на сына, снова пили - и так до тех пор, пока хозяева, угорев от запоя, не выставляли их на улицу. Тогда они отправлялись по следующему адресу. И незаметно ушли так далеко от своего бывшего дома, что даже баба Фая, знавшая все и про всех, как-то потеряла их из вида.
Соседи, учителя, просто сочувствующие поначалу пытались Юрку вразумить. Взывали к его совести, читали нотации, учили жить. Он выслушивал, криво улыбался и вежливо говорил в ответ: «Не ваше дело». Понемногу от него отступились даже самые рьяные воспитатели. Какое-то время люди еще ждали, что «этот» обратится к ним за помощью - и уж тогда-то они дадут себе волю. Но Юрка упрямо молчал и делал все сам. К концу учебного года его просто перестали замечать.
Финансовый вопрос пятиклассник Юрка Кривов решил без чьей-либо подсказки, сдав вторую комнату вечному студенту Алексу. Квартирант был тихий: днем спал, а ночами читал одновременно Рериха, Библию, «Майн Камф» и Кастанеду. В институт он ходил дважды в год: получить обратно аттестат и вновь подать документы на поступление. Было ему уже лет тридцать. Все почерпнутое во время ночных бдений Алекс выливал на Юрку, совершенно не считаясь с его возрастом.
Алекс перебивался редкими переводами с пяти языков, включая идиш. Этого едва хватало, чтобы заплатить за комнату. Юрка покупал на все деньги макароны и пакетные супы, которыми они вдвоем и питались до следующего случая.
Иногда Алекс исчезал на несколько дней и возвращался с валютой, приторным банановым ликером и шоколадными конфетами «Маска». Его бывшие одноклассники промышляли мелким бандитизмом и иногда - из сострадания - брали бесполезного Алекса с собой «на дело»: стоять на стреме вдалеке от основных событий.
В 16 лет, получая паспорт, Юрка взял себе новую фамилию: Юрьев, образовав ее от собственного имени. А отчество изменил на «Алексеевич» - в честь вечного студента Алекса.
В тот же день они неожиданно разговорились, столкнувшись у подъезда, с Геркой, который к тому времени отпустил волосы, вырядился в старую шинель и тоже сменил имя, назвавшись, подражая Летову, Егором.
Не касаясь своей детской дружбы и не вспоминая молчаливого разрыва, они проговорили обо всем на свете часов пять подряд, как только что познакомившиеся и с первого взгляда близкие друг другу люди.
Первое время их новой дружбы Егора кидало в жар, когда Юрьев случайно сталкивался с ним взглядом. Но скоро жгучая недосказанность прошлого утихла, отступив в потемки памяти.
Поэтому через год, когда Егор уже окончательно расслабился, неприятный разговор застал его врасплох. Он тогда лежал в психушке, чтобы получить белый билет, а Юрьев пришел его проведать. Уходя, он невзначай обронил:
- Ладно, мне еще в женское отделение заглянуть надо.
- Тебе там кто-то приглянулся? - гоготнул Егор, изо всех сил учившийся быть циничным. - Не знал, что ты такой декадент!
- Мать у меня там, - ответил Юрьев, поморщившись.
Егор закашлялся, заметался, глупо захлопал глазами и, наконец, промычал:
- Эээ… А что же ты молчал?
- А надо было кричать об этом на всех перекрестках?
Они помолчали. Егор чувствовал, как у него пылают уши, и ненавидел себя, а еще больше Юрьева.
- Что с ней? - кое-как выдавил он.
- Допилась до белки, что же еще, - будто бы спокойно ответил Юрьев.
- А ты….?
- Что я? Хожу к ней, как видишь.
- Но ты же… Вы же… - замялся Егор. - Ну, вы ведь тогда… поссорились… Так вот как же…?
- Ах, ты об этом. Так она меня не узнаёт. Каждый раз рассказывает историю о бессердечном сыне.
- А ты?
- Слушаю. Утешаю. Она говорит: «Ты не такой, ты добрый».
Они опять тяжело замолчали. У Егора на языке вертелся один вопрос, но он никак не решался.
- Ну давай, спроси меня, - мрачно глянул на него Юрьев.
Отступать было поздно.
- Неужели тебе не было их жалко? - выдохнул Егор - и сердце его заколотилось, будто он бросился в воду с высокого моста.
- Было, - нехорошо усмехнулся Юрьев. - Только моя жалость им не помогла бы. Они уже были обречены.
- То есть - падающего толкни? - осмелел Егор.
- Ты дурак! - неожиданно закричал Юрьев. - Начитавшийся дурацких книжек! Вам всем было бы спокойнее, если б я попал в детдом, прирезал кого-нибудь за золотую побрякушку и в двадцать лет сдох на нарах от туберкулеза, ненавидя весь мир! Вы этого от меня ждали?! Да?!
- Ну, что ты говоришь такое, - промямлил Егор.
- А мать так же попала бы в дурдом в компании зеленых чертей! - не слышал его Юрьев. - А папаша получил бы отверткой в бок! Все было бы так же! И изменить этот ход вещей могло только что-то чрезвычайное… Например, малолетний сын выгоняет из дома. Достаточно сильное впечатление, чтобы остановиться! Но им уже не помогло. Я жалею лишь об одном: что не сделал этого раньше! Позволил себе слишком много детства!
- Неужели ты про все это думал - тогда?
- Думал.
Юрьев ушел, не прощаясь. Сделал несколько кругов по больничному парку, чтобы успокоиться. Над головой у него скандалили взбудораженные оттепелью галки. Мокрый снег покорно хлюпал под ногами, и в следы моментально натекала грязная водица.
- Вот тебе и рождественские морозы! - пожаловалась попавшаяся навстречу знакомая бабушка-санитарка.
Юрьев вздрогнул. Рождество он не переносил с тех самых пор. И всегда старался забыть об этом празднике, который, как назло, отмечали со все нарастающим размахом. Но тут что-то другое, непривычное, откликнулось в нем на ненавистное слово. Почти бегом он выскочил из больничных ворот.
Через полчаса он вошел в палату, неся на плече большую искусственную елку. Тетя Алена - осунувшаяся, кроткая и обо всем на свете забывшая - сидела на высокой койке и увлеченно болтала ногами. Увидев елку, она ахнула и восторженно раскрыла рот.
- Вот, - Юрьев взял ее за руку и подвел поближе. - С Рождеством.
Тетя Алена робко погладила мягкие серебристые иголки. Полутемная комната наполнилась дрожащими сказочными бликами. Неуловимое воспоминание выскользнуло из мутного марева, куда уже давно канула вся ее предыдущая добольничная жизнь. Выскользнуло, блеснуло и сладкой болью укололо в сердце.
- Что? Что? - заволновалась она, пытаясь ухватить меркнущий проблеск.
Но туман опять сгустился. Она беспомощно обернулась, увидела Юрьева и расплылась в улыбке.
- Какой ты хороший, добрый! Не то, что тот! - привычно залопотала она и неожиданно добавила: - Давай лучше ты теперь будешь моим сыном?
- Давай, - согласился Юрьев и тоже погладил елку. - Буду.
Виталий Каплан. Звездою учахуся.
1.
Метель кончилась, мутные бурые облака разошлись, сползли к горизонту, освободив пронзительно-чёрное, усыпанное льдинками звёзд небо. В лучах фонарей, точно обрывки ёлочной мишуры, посверкивал свежевыпавший снег. Конечно, это ненадолго, скоро опять вернётся слякоть, снег скукожится, расползётся серой кашей, - но пока что морозец набирал обороты. Михаил Николаевич поёжился в своей тоненькой, "на рыбьем меху", куртке. Твердила же Марина - надевай дублёнку, простынешь. Но в тяжёлую дублёнку не хотелось. Про себя он называл её "скафандром" и всячески старался оттянуть неизбежное.
Надо было торопиться. Хоть транспорт и ходит в эту ночь до двух, но и служба-то, оказывается, затянулась. Михаил Николаевич этого не заметил - рождественская утреня, как и в прошлые годы, выдёргивала душу из привычного потока времени, и всё становилось иным - ярким, солнечным. Точно прошлись влажной тряпкой, вытерли накопившуюся пыль. Даже травой запахло, хотя откуда здесь летняя трава? Вот хвоя - другое дело, перед иконостасом стояли невысокие, затейливо украшенные ёлочки, да пол в храме был выстелен тёмно-зелёными ветками. Но почему-то вместо положенных "мандарина, корицы и яблок" грезилось что-то июльское, горячее, пронзительно-настоящее. А что именно - он понять не мог.
И лишь после причастия, после отпуста, после целования креста, пообщавшись с многочисленными знакомыми, Михаил Николаевич кинул взгляд на часы. Ну надо же! Без четверти два! Еле-еле домчаться до метро. Это если в хорошем темпе. А если опять напомнит о себе сердце? А что делать? Обещал же он Марине. Ведь так и не ляжет, бедная.
На занесённой свежим снегом улице было безлюдно. Лишь редкие цепочки следов тянулись вперёд, в сторону площади, где метро и автобусы. Видимо, наиболее практичные прихожане, рассчитав время, ушли сразу после отпуста. А другие живут рядом, в пределах пешей ходьбы.
И ещё здесь было удивительно тихо. Далеко, со стороны проспекта, слышалось что-то машинное, но как бы и не всерьёз. И ветер, хищно завывавший вечером, теперь увял. Лишь снег скрипел под подошвами, предвещая хоть и недолгие, но всё же настоящие морозы.
Конечно, он опоздал. В два часа едва-едва лишь проявились огни площади. Там горела малиновым пламенем буква "М" - большая и бесполезная. Не мог столичный мэр расщедриться хотя бы до половины третьего? А, чего уж теперь!
Машину поймать? Было бы на что... Как на грех, денег в кармане ноль с копейками. Не подумал, не положил...
Вернуться в храм? Тоже вариант. Просидеть в тепле до утра, даже чаю горячего выпить. Но Марина... Самое скверное, что и не позвонить, дома телефон вторые сутки молчит. А ремонтников дождёшься... Как потянулись с католического Рождества пьяные недели, так и продлятся до старого Нового Года. Давно надо было купить ей мобильный. Но казалось - зачем? Есть же городской номер, почти бесплатный. Тем более, она уже никуда и не выходит.
А теперь что ж, кусай локти. Вот тебе и праздничное настроение! Ведь изведётся же вся...
Оставалось одно - идти пешком. Путь, конечно, неблизкий, часа полтора займёт, а то и больше... Но в любом случае он сэкономит как минимум пару часов. Два часа её нервов, глотания таблеток, скачков давления. Может, она всё-таки хоть немного поспит? Увы, он слишком хорошо знал свою жену.
Ну да ничего, Господь не оставит. Тем более, в такую ночь. Рождество же! Мысленно произнеся молитву о болящих, и другую - о путешествующих, Михаил Николаевич неспешно двинулся вперёд. Бежать незачем, силы надо экономить. Да и мороз в случае чего сам подгонит, заставит шевелиться. Вон уже и уши начинает пощипывать.
2.
- Слышь, Костыль, тормозни! - распорядился с заднего сидения Репей. - Давай лоха подберём. Замёрзнет, жалко.
Костыль недовольно обернулся. После коньяка Репья порой тянуло на благородные глупости. Особенно после хорошего коньяка. У Мумрика был хороший, Мумрик дерьма не держит. Костыль заценил, пускай и совсем смальца. Всё-таки не любил он бухим садиться за руль. Мало ли... От ментов, положим, соткой отмажешься, но ведь и конкретно впилиться можно. Вон как Зубной в прошлом году. Правильный пацан был Зубной. Земля ему пухом. "Его пример - другим наука", выползла из глубины мозгов школьная строчка. Костыль поморщился. Он не любил вспоминать школу. Не самое лучшее было время.
Ничего, вот завалятся они на три дня к Репью на дачу, и там уж он оторвётся по полной. Бурый девочек подвезёт, с хавкой и бухаловом у Репья всегда порядок. Будет что вспомнить.
- Репей, да нафиг нам этот бомжара? - кисло поинтересовался Шуряк. - Он нам весь салон завоняет.
Шуряка тоже развезло, но совсем в другую сторону, нежели бригадира. Если Репей рвался причинять добро, то Шуряк, напротив, обижался на весь мир и искал, на ком сорваться. Находилось не всегда, и положение спасали только девки. Если были под рукой.
- Непохож он на бомжару, - возразил Репей. - Типичный лох. Глянь, чистый, бритый. Очкарик. Доцент, небось.
- Доцентов давить! - твёрдо заявил Шуряк. Он не простил академическому миру, что его выперли со второго курса. Хотя, подумал вдруг Костыль, может, ему и повезло. Ну ладно, ну два года в кирзачах, зато жизнь понял, и вписался потом в неё, в жизнь. А иначе бы чего? Сидел бы за компом, программки ваял, глаза портил. И за сколько? Двести, триста? Детский сад, штаны на лямках.
Впрочем, сейчас Костыль был солидарен с Шуряком. Подбирать мужика незачем. Пускай топает по своим мужичьим делам и держится подальше от серьёзных людей. Однако Репей, которого повело на добро, настаивал, а с бригадиром лучше не заводиться. Костыль знал, что у того шарики порой могут зацепиться за ролики, и тогда случается всякое. Ладно, пёс с ним.
Он притормозил джип в двух метрах впереди от скучного дядьки. Тут же Репей распахнул дверцу и призывно замахал руками:
- Слышь, отец, тебе далеко топать?
Дядька обернулся. Репей был прав - на бомжа тот не походил. Прикид, конечно, смешной и явно не новый. Но не воняет. Или так по морозу кажется?
- До Преображенки, - струйки пара вылетали из мужика вместе со словами. - А что?
- Далёкий путь, - усмехнулся Репей. - Ладно, залазь, подбросим. Как раз и по пути.
Мужик на какое-то время задумался - то ли не верил в нежданное счастье, то ли струхнул. Что там за очками делалось, Костыль не видел. А потом, решившись, лох потянул на себя дверцу и полез на заднее сидение. Здесь, в тепле, окуляры у него вмиг запотели, и на какое-то время он потерял ориентацию.
- Поудобнее устраивайся, - добродушно прогудел Репей. - На всю задницу. Давай, Костыль, двигай.
Тот с готовностью вдавил педаль, и чёрная морозная тьма, расцвеченная случайными огоньками, потекла мимо них. Да, повезло мужику, что дача у Репья по Ярославке. Крюк бы уж точно делать не стали. Ради какого-то лоха...
- Издалека топаешь? - поинтересовался Репей. Шуряк, вынужденный перебраться на переднее сидение, мрачно смотрел вниз. Чувствовалось, что нехорошо ему. Не блеванул бы, опасливо подумал Костыль. Как-то он уж очень быстро наклюкался...
- Да вот, после ночной службы домой иду, - отозвался мужик, малость согревшись в жарком салоне.
- И что ж у тебя за служба такая? - прищурился Репей. Костыль видел его ухмылку в зеркальце заднего обзора. - Типа и опасна, и трудна?
- Ну как... - мужик, похоже, удивился. - Церковная служба. Рождество ведь Христово сегодня. Кстати, с праздником.
- Взаимно, - отозвался Репей. - Мы вон тоже отмечаем. Великий, типа, праздник. На, прими! - Он достал плоскую серебристую фляжку и протянул гостю. - Давай, за Рождество!
Мужик как-то не обрадовался.
- Спасибо, - вздохнул он, - но нельзя мне. Язва, к сожалению. Три месяца только после операции.
- Ну, как знаешь, - хмыкнул Репей. Сам он налил себе из фляжки в длинный, почти в рюмку вместимостью колпачок и лихо дёрнул. - Перцовая, блин! Высший класс. Ты, дядя, мимо своего счастья пролетел.
Мужик дипломатично промолчал.
- А ты вон, значит, шибко в бога веришь? - Репья тянуло на дебаты.
- Ну, как сказать... Верую, конечно, но мог бы и сильнее верить, глубже. Увы, грешен.
- Ой, ну уж так прямо и грешен? - хохотнул Репей. - Скольких порезал? А баб много завалил? Ну вон то-то. Тебя бог должен по шёрстке гладить, ты ж примерный...
- Да какой я примерный, - тоскливо протянул мужик. Костыль как-то сразу понял, что тому очень не хотелось лезть в базары с Репьем. - Ничуть не лучше прочих... Много всякой мути во мне. Удивляюсь, как это Господь всё мне прощает?
- А он у них добренький, - подал вдруг голос Шуряк. - Он у них свечки любит. Они ему свечку, денюжку в копилку, он им дело и закроет. Типа как Сан Палыч.
Репей недовольно хмыкнул, и вновь Костыль уловил его настроение. Не стоило светить при лохе Сан Палыча. Конечно, откуда тому знать имя... но мало ли... А вдруг он именно там, в прокуратуре, и пашет? Младшим подметальщиком?
- А ты вообще кто по жизни, мужик? - сладким голосом осведомился Репей. Не понравился Костылю его голос. Жди теперь чудачеств...
- Учитель я, физику в школе преподаю, - сдержанно ответил мужик.
- И что, физика уже бога признала?
- Это же разные вещи, - вздохнул тот. - Это за пять минут не объяснить. Наука и вера друг другу не враги. Они просто о разном говорят... Про это сотни книжек написано.
- Мы книжек не читаем, - булькнул Шуряк. - Мы глаза бережём.
И заржал. Смешно ему было, Шуряку.
- Ну а вот скажи... - задумчиво протянул Репей, - вот бог, значит, тебя терпит. Выходит, любит, да?
- Конечно, - судя по тону мужика, он столкнулся с незнанием таблицы умножения. - Господь всех любит, и праведников, и грешников. Для того Он и стал человеком, и смерть на кресте принял. Самую страшную смерть.
- Угу, плавали-знаем, - улыбнулся Репей. - А только вот где доказательства, а? Любит, говоришь? Всех, говоришь? Значит, и меня? - Тут бригадира повело, голос его забулькал ядом, и тут же взвинтился до крика. - А где ж Он был, когда сеструхе мою разложили? В четырнадцать лет! И кто, главное? Директор школы, прикинь, козлина! Кончилась девка, на панель пошла. А когда меня на зоне шакалы подрезали, где Он был? Любовался, да?
Костыль поморщился. Чем дальше, тем у Репья конкретнее тараканы в голове шуршат. Уж не заторчал ли? Может, пришла пора от него сваливать? Мансур вот с Коптевского рынка недавно звал... как бы и шутил, а как бы и нет... Это стоило обдумать... после праздников, конечно.
Мужик муторно вздохнул, будто его по загривку отоварили. Не так, чтобы совсем с копыт сшибить, а типа с намёком.
- Ребята, поймите, всё куда сложнее, чем вам кажется. В жизни очень много зла...
- Вот Он в этом и виноват! - разом успокоившись, заявил Репей. - Он нам такую подляну устроил, Он нас такими сделал. А ты Ему кланяешься, свечки жжёшь... Думаешь, будто спасёшься...
Костыль аккуратно вырулил на Семёновскую площадь. Машин почти не было, но снегу намело изрядно. Шины, конечно, зимние, но очертя голову рвать тоже нефиг. Опять вспомнился Зубной. Нет уж, тише едешь, позже сядешь...
- Да не так всё, ребята, - едва ли не простонал мужик. - У вас детсадовские какие-то представления. Ну нельзя ж так, судить, ничего не зная. Да в любой храм зайдите, поговорите с батюшкой... или в самом деле почитайте, книг навалом, уж с пары книжек не ослепнете...
Это он зря сказал. Репей если разойдётся, его надо молча слушать. Нипочём не возражать. Костыль догадывался, почему его так клинит на этой теме. Баба эта помятая, как там её... Антонина, кажись. Ух, она разорялась тогда, богом стыдила, адом пугала! А с какого бодуна? Всё по понятиям тогда сделали. На квартиру - дарственная, сама же подписала... ну, намекнули смальца. Нефиг было её плоскозадой дочке садиться в ларёк, не умея бабло считать. И ведь по-человечески всё с ними обошлись, никакого беспредела. Во Владимирской области тоже жить можно. Хошь дояркой на ферме, хошь давалкой на трассе. Но Репей почему-то тогда сильно перебздел. К тому же у него болячка нехорошая как раз тогда случилась... так надо смотреть, где и с кем. Да и давно уже пролечился. Но вот, выходит, крепко заело ему на этой божественности мозги.
Сам Костыль никогда про такое не думал. А вот мамка сильно не одобряла. Даже когда от гангрены мучилась, и то ни словечка. Санитарка там ей одна намекнула, типа за попом сбегать, так мамка из последних сил её обложила конкретно. Дядя Коля, тот всякой фигнёй не заморачивался. Его интересовали вещи простые и понятные. Что, впрочем, не мешало ему в ответ на мамкины попрёки, на какие, блин, шиши нализался, отвечать: "А Боженька послал". Ну, мамка его тоже, конечно, посылала. А он её... И понеслось...
У Костыля даже зуб залеченный заныл при этих мыслях. Хорошо же праздник начинается...
- Нет, ты думаешь, что спасёшься, - упрямо протянул Репей. - Что вот ты помолишься, лбом в паркет потыкаешься, и разлюли-малина тебе. Типа из любой дырки Он вытащит, да?
- Есть такое понятие, Промысел Божий, - сухо возразил мужик. - И знать мы его заранее не можем. Захочет Господь, будет это мне на пользу духовную - и действительно, вытащит. Были у меня в жизни такие случаи. Но и по-другому было... - он вздохнул. - Надеяться и молиться надо, а стопроцентно рассчитывать на помощь... нет, так нельзя.
Репей надолго замолчал. Уже и метро проскочили, и железнодорожную ветку-узкоколейку, скоро уже засияет фонарями Преображенка. И тут он вдруг хохотнул.
- Слышь, Костыль, тормозни. Есть тема.
3.
Михаил Николаевич не сразу даже понял, что случилось. Вот только что он сидел в тёплом салоне иномарки - а теперь его выволокли на мороз. Все трое непрошеных благодетелей, хлопая дверцами, выскочили из машины.
Места были знакомые. Летом тут хорошо - большой тенистый сквер, спортплощадка, и в отдалении приземистые, старой постройки дома. Однако сейчас всё гляделось довольно мрачно. Редкие фонари давали света ровно столько, чтобы отличить древесные стволы от снега. Свежего, хрусткого снега, ещё не помеченного здешними собаками.
Куртку, ту самую, "на рыбьем меху", с него сорвали сразу же, ещё в машине. Кинули куда-то на переднее сидение. Двое коренастых парней - водитель и тот, что сидел с ним рядом, взяли его за локти, а третий, тощий и жилистый, пошлёпал через дорогу вперёд, к скверику. Махнул оттуда рукой - давайте, мол.
Сопротивляться было бесполезно. Тем более, очки слетели сразу же, а без них мир сделался рыхлым и каким-то нереальным. Несмотря на бодрящий, казалось бы, мороз, у него закружилась голова и перед глазами поплыли радужные пятна. То ли звёзды, то ли новогодние игрушке на ёлке. Как радовался тогда трёхлетний Димка, как рвался развешивать золотые шары и серебряные бутафорские конфеты...
Время куда-то провалилось, ускользнуло из-под ног - и тут он обнаружил себя прислонённым к шершавому (ощущалось лопатками даже сквозь свитер) стволу. Вспыхнул мутный огонёк - жилистый щёлкнул зажигалкой.
- Вот, физик, - начал он, - это у нас эксперимент будет. Насколько сильно любит тебя твой бог. Давайте, пацаны, принайтуйте его. Собственным же ремешком.
Тут же грубые руки скользнули ему под свитер, деловито завозились. Резкое движение - и брюки ослабли, хотя и держались кое-как на тощих бёдрах. А запястья, захлёстнутые ремнём, завели за спину и рванули вверх.
- Во, - одобрил жилистый, - и к стволу. Хороший ремешок, крепкий. Медведя выдержит.
- Ноги бы ещё, - озабоченно заметил тот, что всю дорогу горбился на переднем сидении.
- Да хрен с ними, - жилистый махнул рукой с зажигалкой, и рыжий огонёк прочертил в тёмном воздухе дугу. - Пускай попляшет. Никуда не денется.
Накатила дурнота, радужное мелькание перед глазами усилилось. Но что странно - не ощущался мороз. То есть это пока, понимал Михаил Николаевич. Потом схлынет возбуждение, и холод возьмёт своё. Если только раньше не случится чего похуже.
Внутри было горько. Ничего не осталось от рождественской радости. Разбилась, как хрупкая елочная игрушка. Дзинькнула на паркетном полу, и сейчас же заревел Димка, захлопотала над ним Люся... Конечно, он вновь и вновь читал Иисусову молитву, но чувствовал - без толку. А ведь что-то такое кольнуло душу, едва сел в гостеприимный джип. Бежать надо было, бежать без оглядки... Хм... С его-то сердцем. Он ведь и до метро добежать не успел. Господи, Иисусе Христе, ну сделай же Ты хоть что-нибудь! Воссия мирови свет разума!
Было темно и глухо. Три чёрных тени кривлялись перед ним на снегу. Подпрыгивали, отгоняя подбирающийся холод, их обладатели.
- Ну так вот, физик, - жилистый поднёс ему зажигалку почти к глазам. - Типа богословский эксперимент. Спасёт тебя твой Христос, или как? Ты не бойся, мы тебя гвоздями прибивать не будем, нету гвоздей. Так повиси. А мы поедем. Ты же веришь в Него? Ты ж Его любишь? Ну вот Он тебя и выручит. Уж не знаю как. Типа там огненная колесница, или ангелы... как там у вас полагается? А если нет... значит, и бога никакого нет, значит, фигня. Зато послужишь науке. Ты ж ученый, да?
Раздалось невнятное бульканье. Михаил Николаевич непроизвольно скосил глаза. Один из парней согнулся пополам и деловито, с чувством блевал на синевато-черный снег.
- Ребята... - слова замерзали в горле, слова были тусклыми и шершавыми. - Ну зачем вы так? Ну ладно, ну не верите вы в Бога, но хоть что-то же должно у вас быть? Ну не по-людски же. Замерзну же! У меня жена-инвалид, пропадёт без меня...
- А как же бог? - вкрадчиво возразил жилистый. - Ты ж сам языком болтал, типа всё во власти Божьей. Типа или Он тебя выручит, или это тебе неполезно. Так? Ну вот пускай он и решает. Мы тут, выходит, и не при чём. Звиняй, физик.
Михаил Николаевич не нашёлся, что ответить. Марина так и не легла... и не ляжет... Телефон не работает... А его нет и нет. Разве что соседка заскочит? Если, конечно, Марина сумеет ей открыть. Если раньше не случится приступ... Господи, ну за что же, за что?!
Если бы он молчал! Если бы не поучал столь самоуверенно этих новых людей, хозяев жизни... Нет же, проповедовать начал... И если бы тогда... двадцать лет назад... Гордыня, всё та же липкая, проникающая во все поры гордыня.
- Ребята... - просипел он. - Ну пожалейте.... отпустите...
- Это легко, - жилистый, наверное, опять улыбался, но зажигалку он уже погасил, и в нахлынувшей тьме не было видно. - Ты вот только признай, что никакого такого бога нет и не было, что фигня это, сказки для лохов. И мы тебя тут же в тёплую машину и прямо до родного подъезда. И бабла отслюним, за моральный ущерб. Ну как, физик?
А как физик? Что делать-то? Господи! Ну подскажи! Марина же... Одна же... А потом покаяться. Всё честно рассказать отцу Александру. Сто поклонов в день, целый год. Ежедневно акафист Иисусу Сладчайшему... Господь милосерд... "Не согрешишь - не покаешься, не покаешься - не спасёшься"... Такой вот манёвр... Проще надо быть. Ближе к реальности. Разбился ёлочный шарик - плевать, новый купим. А маленький Димка рыдал, в ужасе глядя на золотистые осколки... Рыдал так, будто разбилась вся жизнь, и не собрать уже, не склеить, не купить.
- Нет, - вылетело из заиндевевших губ. - Уходите, ребята.
Он понимал, глядя на удаляющиеся тени, что надо бы сейчас молиться за эти заблудшие души. "Ибо не ведают, что творят". Но не получалось - мешал холод. Ослепительный, равнодушный холод. Такой же равнодушный, как высокие звёзды. "В нем бо звездам служащие... звездою учахуся..." Не согревал рождественский тропарь, и небо с каждой минутой становилось всё темнее.
Хотя куда уж дальше?
4.
- Ну и что теперь? - буркнул Костыль, не отрывая взгляда от заметённого шоссе. Машин на трассе почти не встречалось, можно было гнать от души, но как-то не хотелось сейчас скорости.
- А чего? - хмыкнул сзади Репей. - Не ссы, всё в мазу. Место там глухое, до утра никто не появится. На нас не покатят. Первый раз замуж, что ли? Никто копать не будет, он тебе что - депутат? Телезвезда? Даже, прикинь, не журналюга, препод занюханный. Кому он на фиг сдался?
- Классно прикололись, - подал булькающий голос Шуряк. Похоже, там, в скверике, из него не всё содержимое вытекло. Как бы не продолжил... Впрочем, пусть об этом у Репья голова болит, его же тачка. Тоже вот, сколько понтов было! А ведь и десятилетней давности, и латанная сто раз... Зато "чероки", зато как у больших...
- Не, - наставительно заявил Репей, - это круче. Это настоящий эксперимент. Как в лучших лабораториях Оксфорда!
Слова-то какие знает! Впрочем, Репей всегда любил под солидного косить. Газеты даже читал под настроение. Вслух, с интонациями.
- Слышь, Костыль, дай сюда прикид этого нашего физика.
Учительская тряпка валялась на переднем сидении, где её и бросили, когда вытащили лоха из машины.
- Ну и стыдоба! - прокомментировал Репей, принимая потёртую, а местами и аккуратно заштопанную куртку. - Совсем дядя опустился.
- Так он же не пацан, он же лох! - внёс поправку Шуряк.
- Это верно. Ну-ка, поглядим, что там... О! Бабло, однако... Крутое бабло, сорок рэ и ещё копейками. Ксива... Во, блин, паспорт ещё советский, не обменял.
- Такой нафиг никому не нужен, - заметил Костыль. - Не толкнуть. Обмен-то вроде уж закончился. Типа пролетел дядя.
- Не, - голос Репья сделался вдруг торжественным, точно ему доверили произносить первый тост на юбилее Сан Палыча. - Нефиг мелочиться. Я ж говорю - эксперимент. Вернёмся с дачи, пробьём по паспорту его данные, через недельку посмотрим. Если типа значится мёртвым или бесследно пропавшим, значит, не спас его бог. Значит, ничего и нет. Пусто там.
- А если жив-здоров? - зачем-то хмыкнул Костыль, тут же укорив себя за болтливость. Пока с Репья не слетел кураж, возражать не стоило. Это как с гранатой играться.
- Да не зуди! - миролюбиво осклабился тот. - Сдохнет, куда денется? На вот, - вытянул он вперёд руку. - Сунь ксиву в бардачок. Дома уж позырим.
Промелькнул Лосиный Остров, вскоре вылетели на светлый от многочисленных фонарей Проспект Мира, а там уже пересекли кольцо и понеслись по заснеженной Ярославке. Оставалось не так уж много, дача Репья была близ Клязьмы.
Снаружи явно похолодало. Небо стряхнуло с себя остатки облаков, и в переднее стекло ввинчивались острые звёздные лучики. В городе таких ярких звёзд не бывает. А тут - прям как в планетарии, почему-то подумал Костыль. В планетарии он был лишь однажды, с папой. В тот последний год... Ничего он, пятилетний, не запомнил, кроме удивительно ярких разноцветных звёздочек, медленно крутившихся по чёрному ненастоящему небу под тягучую музыку. А потом сделали рассвет, и на улице папа купил мороженое. Самое сладкое мороженое в мире. И цвела сирень, и ничто не предвещало ни рыжеусого дяди Коли, которого потом заставляли называть папой, ни лихорадочного блеска мамкиных глаз, ни спешного переезда в Тамбов. Как же потом его доставала эта дурацкая песенка! "Мальчик хочет в Тамбов". Не хотел туда мальчик. Мерзкий городишко. Чем дальше, тем хуже там было. Ясен пень, после армии он и не стал туда возвращаться. К кому? Мамки уже не было, а дядя Коля... С каким наслаждением он тогда его напинал! Наслаждение, правда, быстро схлынуло, и за ним открылась сосущая пустота. Потому и перебрался в Москву, послушал Мумрика. Хотя в Москве тоже сперва никаких зацепок не было. Но повезло, люди его заметили, приставили к делу...
- Слышь, Костыль? - вклинился в его мысли Шуряк. - Ты это... тормозни. Облегчиться бы... Мутит меня.
- Точно! - добавил Репей. - Мне тоже отлить хотца.
Костыль послушно сбавил скорость. Вот и место подходящее нашлось - лесополоса почти вплотную примыкала к шоссе, отделённая от него лишь узкой полоской снега.
Разом хлопнули задние дверцы, страждущие товарищи выбрались на природу.
Составить им, что ли, компанию? Не тянуло. Вылезать на мороз, из тёплого-то салона, топать, по колено проваливаясь в снег - нет уж, как в анекдоте про поручика Ржевского. Благодарю покорно-с.
Костыль, конечно, не стал глушить мотор, на таком-то холоде. Фигня расходы, бензина почти полный бак.
Две тёмные фигуры скучно топтались у кромки деревьев, под светом фар. Долго они там колбаситься будут?
От нечего делать Костыль вынул из бардачка краснокожую паспортину давешнего физика. Экспериментального, блин, кролика.
Так-так... Первая страница. Фотографии... Двадцать пять лет, потом сорок пять... Костылю показалось, что в салоне выключилась печка. Таа-к... Фамилия, имя, отчество. Прописка. Брак... Первый штамп... второй... Дети...
Ему приходилось получать в лоб - крепко, без дураков. Обволакивает тебя звенящей плёнкой, и когда поднимаешься с земли, мир кажется ненастоящим. Но вот чтобы так... Так ещё не случалось. Сердце... Он знал, конечно, что есть у него в организме такая штучка... но раньше её не протыкало насквозь ледяной иглой...
Костылёв Михаил Николаевич, сорок девятого г.р., состоял в браке с гражданкой Сергеевой Людмилой Викторовной, разведён... Зарегистрирован брак с гражданкой Ольшевской Мариной Аркадьевной... уже десять лет как зарегистрирован... Дети... Костылёв Дмитрий Михайлович, восьмидесятого года рождения...
Та-ак... В шестнадцать лет, когда пришла пора получать паспорт, мамка всё зудела, чтобы он взял её фамилию. "Папа давно умер, ему без разницы. А мне приятно будет, продолжишь род..." Но он уже слишком привык откликаться на Костыля.
А можно было и не читать ничего - хватило и фоток. Живого, постаревшего, в дурацких очках - не узнал, а на фотках - сразу. Спустя семнадцать лет...
И эти семнадцать лет разом булькнули в какую-то узкую чёрную дыру.
- Бли-ин... - сдавленно просипел он.
Впрочем, руки оказались умнее головы. Резко вдавив педаль газа, он развернул машину, вырулил на пустынную встречную полосу.
Ещё можно успеть! Ну сколько прошло? Не больше же получаса!
В боковом зеркальце он увидел две смешные, суматошно машущие фигурки. Плевать!
Он погнал. Здесь, на трассе, можно и сто пятьдесят выжать... да и в городе... в такую-то ночь... в Рождество...
"Папа, ну продержись, я быстро!" - на глаза наворачивались давно забытые слёзы. - "Господи! Значит, Ты и вправду есть? Ну помоги ему... мне... нам..."
Впереди, во всё небо, пылали звёзды. Казалось, от каждой из них протянулись невидимые ниточки, и не бензиновый двигатель гнал машину, а именно притяжение этих тонких лучей. Синие, оранжевые, зелёные... будто на той, первой в его жизни ёлке... Но шарики больше не упадут, не разлетятся мёртвыми осколками. Если только он сам... Но он поймёт, как, он научится. Научится этой детской, этой звёздной правде. Только бы не опоздать!
И он ничуть не удивился, когда звёзды вдруг разрослись, превратившись в маленькое золотое солнце. Хотя, может, это получилось просто из-за слёз.
Да здравствует Цезарь! (лат.) - обращение к императору.
Дромадер - одногорбый одомашненный верблюд.
1 Евангелие от Матфея 2:1-2.
2 Шептала - сушеный персик.
107


